В День российской науки: смешаем все химические элементы, узнаем о "Легенда №118" и ещё кое-что ;-)
08-02-2025 04:06
к комментариям - к полной версии
- понравилось!
Вы задавали себе вопрос:
🌟Что будет, если все химические элементы вступят в контакт одновременно?
Представьте себе: все 118 элементов периодической таблицы, от легчайшего водорода до тяжелого оганесона, вступают в контакт одновременно.

Не правда ли, звучит как начало эпической научной фантастики? Но что на самом деле произойдет, если этот химический катаклизм вдруг станет реальностью? Увы, реальность, вероятно, окажется куда прозаичнее, чем мы могли бы ожидать.
Смешать, но не взбалтывать: что творится на атомном уровне?
В такой ситуации, при хаотичном смешивании, реакция атомов будет определяться их близостью друг к другу. Кислород, к примеру, весьма активен, и, если рядом окажется водород, образуется вода. Если же его соседом станет углерод, то получится угарный газ. Похожая «игра в соседа» произойдет и с другими элементами, порождая самые разные, зачастую непредсказуемые соединения. Иными словами, мы получим не «единую» молекулу, а случайный набор молекул, зависящий от того, какие атомы случайно окажутся рядом. К тому же, благородные газы (они же инертные), вроде неона или аргона, предпочтут остаться «в стороне», не вступая в реакции.
Скорость света и кварк-глюонная плазма: когда хаос выходит на новый уровень
Если простое смешивание кажется недостаточно захватывающим, давайте добавим немного динамики. Представим, что мы разгоняем атомы до скорости, близкой к скорости света, подобно тому, как это происходит в Большом адронном коллайдере. Казалось бы, это должно привести к слиянию ядер и созданию каких-то экзотических элементов. Но и здесь нас ждет разочарование.
Скорее всего, мы получим так называемую кварк-глюонную плазму — состояние материи, которое, по мнению ученых, существовало в первые мгновения после Большого взрыва. Однако, это состояние крайне нестабильно и быстро распадается. Более того, для такого эксперимента нам понадобился бы не один, а 118 коллайдеров, что, очевидно, нереально.
Химический «коктейль»: взрывное начало и скучный конец
Но что же будет после того, как буря утихнет? К сожалению, результат окажется таким же банальным, как и в первых двух сценариях. Кислород и углерод образуют угарный и углекислый газ, азот останется в неизменном состоянии, а благородные газы и металлы, такие как золото и платина, вообще не вступят в реакции. Все остальное образует ржавчину и соли.
Почему природа так неинтересна?
В чем же причина столь скучного финала? В дело вступает термодинамика — наука о равновесии. Системы, предоставленные самим себе, всегда стремятся к состоянию с минимальной энергией, к стабильности. В нашем случае это означает образование простых, распространенных соединений, таких как углекислый газ, вода, соль и ржавчина.
Так что, несмотря на всю свою потенциальную зрелищность, наш эксперимент скорее приведет к хаосу и разрушению, чем к созданию чего-то нового и необычного.
Природа, увы, не всегда готова соответствовать нашим фантазиям, предпочитая стабильность и простоту. Но, возможно, именно в этой простоте и кроется ее истинная красота.
🌟А ещё такой вопрос: есть ли конец таблицы Менделеева?
В настоящий момент она заканчивается на 118 элементе, оганесоне. Кстати, назван он в честь Юрия Оганесяна(рассказ о нем ниже 👇), руководителя группы физиков, получивших 4 элемента со 104 по 107 — и это практически уникальный случай, поскольку за всю историю лишь два элемента называли в честь кого-либо при жизни (оганесон и сиборгий).
Но никто не поручится, что со временем не синтезируют 119-ый и какие-либо еще элементы. К тому же уже были случаи, когда синтезировали элемент, который шел не сразу после последнего известного — а через один или даже несколько. Тот же оганесон открыли до открытия 117-го элемента, теннесина — клеточка 117 в таблице оставалась некоторое время пустой.
Достаточно распространенная, но пока не твердо доказанная гипотеза гласит, что где-то за перечнем короткоживущих элементов могут быть относительно стабильные. Эту гипотезу называют «остров стабильности», о ней много пишут, но она и не доказана, и не опровергнута. Постоянный поиск, то есть упорные попытки синтезировать возможно более тяжелые атомные ядра, продолжается.
🌟Легенда №118
14 апреля академику РАН Юрию Оганесяну, в честь которого назван 118-й элемент таблицы Менделеева, исполняется 92 года.

Больше половины из них Юрий Цолакович Оганесян посвятил ядерной физике. И сейчас под его руководством идут эксперименты над выявлением новых сверхтяжелых элементов таблицы Менделеева в лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флёрова в ОИЯИ в Дубне. Сам академик Оганесян говорит, что открытие новых элементов еще впереди.
Научные исследования академика Оганесяна, как и он сам, давно стали легендой. Он соавтор открытия нескольких тяжелых элементов таблицы Менделеева. В результате синтеза еще в 1960–1970-е годы были открыты 104-й элемент — резерфордий, 105-й — дубний, 106-й — сиборгий, 107-й — борий. В честь Юрия Оганесяна назван элемент— оганесон, на сегодня последний, 118-й по номеру в таблице Менделеева, открытый в 2006 году. Искусственно синтезированный, номинально он считается инертным газом, представляющим при нормальных условиях одноатомный бесцветный газ с низкой химической реактивностью.
Синтезировать сверхтяжелые химические элементы ученые начали еще в 40-е годы прошлого века. Первыми такими элементами стали нептуний и плутоний, которым присвоили номера 93 и 94 в таблице Менделеева. С тех пор она существенно расширилась. Сверхтяжелые элементы создавались искусственно, в природе их не существует. Для опытов берут два атома с общим числом протонов, равным количеству протонов в ядре будущего нового элемента, и на высокой скорости сталкивают их в ускорителе. При точном попадании одного ядра в другое происходит их слияние, и возникает ядро нового элемента. «Непосвященным кажется, что процесс простой и даже примитивный, однако на деле он может занимать годы научных экспериментов»,— говорит академик Оганесян.
Прежде чем в нашей стране начали проводить научные эксперименты в области ядерной физики, физикам пришлось пройти непростой путь. В конце 1950-х годов запустить мощный ускоритель для научных экспериментов в области ядерной физики советская наука еще только планировала, но специалисты для работы на нем уже были. Их готовили на базе Московского механического института (ММИ). Чтобы обучить людей, способных заниматься еще и инженерией, в вузе были созданы пять новых кафедр: атомной физики, теоретической физики, ядерной физики, прикладной ядерной физики и точной механики. Студенты нового вуза по уровню знаний должны были соответствовать студентам ведущих в то время вузов МГУ и Бауманки, при этом за годы учебы в ММИ их обучали приличным инженерным навыкам, готовя их к созданию новой атомной техники. Одним из выпускников нового вуза был и нынешний академик Юрий Оганесян.

На выбор его научной карьеры повлиял случай. Он родился в Ростове-на-Дону в семье архитектора и должен был продолжить дело отца. Однако по прибытии в Москву подавать документы в архитектурный он не стал. Поддался общему азарту друзей, которые приехали поступать в Московский механический институт, подал документы туда же и довольно легко получил студенческий билет. Он признается, что поначалу учеба давалась ему нелегко, так как он был нацелен на поступление в архитектурный институт, но примерно на втором курсе он, что называется, втянулся и окончил вуз в 1956 году.
Работать он пошел по новой, модной в то время специальности и с тех пор не изменяет ей. Что, впрочем, вполне логично для тех лет — «золотого века» ядерной физики и прорыва в космос. Как писал поэт Борис Слуцкий:
Что-то физики в почете.
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете,
Дело в мировом законе.
…Это самоочевидно.
Спорить просто бесполезно.
Так что даже не обидно,
А скорее интересно
Наблюдать, как, словно пена,
Опадают наши рифмы
И величие степенно
Отступает в логарифмы.
«Я окончил вуз по профильной специальности “ускорители” и получил приглашение на работу в Институт атомной энергии к академику Флёрову в Московский институт атомной энергии. Мы, ученые, работали над созданием пучков тяжелых ионов на старом маленьком ускорителе. Опыты шли тяжелее и дольше, чем могли бы: нужного оборудования не было, нужна была господдержка, но дальше разговоров в научном сообществе дело не шло»,— рассказывает Юрий Оганесян.
В одну из ночных смен, в которых работал молодой ученый, к ним в лабораторию приехал сам академик Курчатов и спросил, как продвигаются научные эксперименты. Курчатова уважали и боялись, говорить с ним прямо мало кто мог себе позволить. Но молодой научный сотрудник Юрий Оганесян, не скрывая ничего, рассказал ведущему отечественному ядерщику обо всех бытовых и инфраструктурных сложностях, сопряженных с научными экспериментами, а также о том, что ему нужно для работы и зачем.
«Курчатов велел нам в письменной форме изложить, что нам необходимо для работы, и мы с академиком Флёровым это сделали. Через год в Дубне стали строить современный ускоритель, который запустили в 1960-м. Я переехал сюда и работаю с тех пор. Это была лучшая ускорительная техника тяжелых ионов в мире. В этом мы держали рекорд с самого начала. И пока его держим»,— говорит Юрий Оганесян.

После запуска нового ускорителя Юрий Оганесян перебрался в Дубну из Москвы, и с тех пор это его вторая научная родина. Здесь в ОИЯИ в 1970 году он защитил диссертацию «Деление возбужденных ядер и возможности синтеза новых изотопов» и получил степень доктора физико-математических наук, затем возглавил лабораторию ядерных реакций им. Г. Флёрова ОИЯИ. Научная карьера шла своим чередом. Членом-корреспондентом АН СССР он стал в 1990 году, а академиком РАН — в 2003 году, сегодня кроме всего прочего Юрий Оганесян является председателем научного совета РАН по прикладной ядерной физике.
За свои работы он не раз становился лауреатом научных премий, он является обладателем десяти почетных научных званий, среди которых почетный профессор университета Мессины в Италии, почетный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова. Несмотря на очевидные достижения, говорить о своем личном вкладе в российскую ядерную физику и науку ученый не любит и прерывает подобные вопросы фразой: «Пожалуйста, спросите об этом у моих коллег».
Но его достижения и так всем известны. Например, он вел основные научные исследования по определению механизма взаимодействия сложных ядер и доказал влияние ядерной структуры на массовое движение ядер в процессах их слияния и деления. Оганесян в середине 1970-х открыл холодное слияние массивных ядер, и этот метод применяют мире в лабораторных исследованиях синтеза новых элементов. Он автор фундаментальных трудов по синтезу новых элементов на пучках тяжелых ионов.
Об отечественной науке академик может рассуждать часами. На вопрос, является ли 118-й элемент конечным в таблице Менделеева, он уверяет, что допускает появление новых элементов, вплоть до 180. Однако вопрос, насколько долго будет существовать их ядро, до сих пор является предметом долгих научных дискуссий и экспериментов. Несколько лет назад в Дубне открыли новую лабораторию с ускорителем помощнее, получившую в научном сообществе название фабрика сверхтяжелых элементов. И сейчас мировых аналогов подмосковной лаборатории не существует.

Сегодня академик Оганесян продолжает вести активный образ жизни, как и 30, и 50 лет назад. Просыпается в пять часов утра, старается проходить ежедневно пешком 3–4 км, говорит, что неподвижный образ жизни для него неудобен и неприемлем.
«Занятия спортом помогали ясно мыслить, держать себя в хорошей форме. Эта привычка сохранилась до сегодняшних дней и не изменится»,— уверен Юрий Оганесян.
🌟 Поздравляем все блестящие умы Российской Федерации - всех наших ученых - с Днем науки!
Наука - это огромные возможности и мощь.
Пусть ваше любопытство и преданность делу помогут раскрыть самые величайшие тайны Вселенной! Желаем удачи на этом нелегком пути, оптимизма, здоровья и сил, необходимых для научных свершений.
Ваша работа вдохновляет грядущие поколения. Пусть каждый жаждущий ответов на свои вопросы найдет их, решит свои самые сложные задачи, познает непознанное и откроет новые горизонты знаний.
Ваша преданность исследованиям и тяга к инновациям подпитывает прогресс и прокладывает путь к светлому будущему всего человечества.
Мечтайте и превращайте ваши мечты в реальность! Продолжайте расширять границы знаний.
Продолжайте исследовать, экспериментировать и совершать революционные открытия. Ясного ума, вдохновения, выдержки, терпения и вечной любви к науке!
Желаем, чтобы ваша жажда знаний приводила к потрясающим результатам!
Пусть этот праздник вдохновляет на научную деятельность, новые идеи и открытия, смелые решения! Плодотворной и результативной работы!
Желаем, чтобы наша страна всегда оставалась лидером научного прогресса. Побольше интересных идей, успешных проектов, важных открытий, значимых результатов и грандиозных прорывов в науке.
Пусть ваши умы всегда будут ясными и проницательными. Сердечно желаем вам здоровья и удачи в достижении ваших целей! Всего самого наилучшего. С Днем науки!

🌟 Научные идеи формируют мир, в котором мы живем. Российская наука — это не просто история славных достижений, это активный процесс, который формирует наше общество и открывает новые горизонты для будущих поколений.
Песня, некогда популярная
🎶 В. Высоцкий — «Товарищи ученые»
Сатирическая композиция, без которой не обходился ни один концерт артиста для работников науки. Своего рода монолог люмпена: исследователям, измученным синхрофазотронами и гамма-излучением, предлагается отправиться на сбор картошки, чтобы понять — надо быть ближе к земле, а там и с любой сложной задачей разберемся.
Классика, не теряющая актуальности.
🎶 Сериал "История российской науки"
Анимационный сериал, повествующий о главных открытиях и достижения российских ученых.
1.История мирного атома и термоядерный синтез.
2.История изучения Арктики и Антарктики.
3.История радиоэлектроники.
4.История авиастроения.
5.История отечественной школы медицины.
6.История космонавтики
7.История изобретения лазеров.
источник1
источник2
источник3
источник4
источник5
вверх^
к полной версии
понравилось!
в evernote
 | Песня про российскую науку! |
Вы задавали себе вопрос:
Представьте себе: все 118 элементов периодической таблицы, от легчайшего водорода до тяжелого оганесона, вступают в контакт одновременно.

Не правда ли, звучит как начало эпической научной фантастики? Но что на самом деле произойдет, если этот химический катаклизм вдруг станет реальностью? Увы, реальность, вероятно, окажется куда прозаичнее, чем мы могли бы ожидать.
 | Первый, и самый очевидный способ представить себе этот эксперимент — просто смешать все атомы в одной коробке. Кажется, что результатом должна стать какая-то удивительная супермолекула, объединившая в себе все элементы. Но, увы, природа работает иначе. Атомы, как известно, состоят из ядра и вращающихся вокруг него электронов. Молекулы же образуются, когда электронные оболочки атомов «перекрываются», формируя связи. |
В такой ситуации, при хаотичном смешивании, реакция атомов будет определяться их близостью друг к другу. Кислород, к примеру, весьма активен, и, если рядом окажется водород, образуется вода. Если же его соседом станет углерод, то получится угарный газ. Похожая «игра в соседа» произойдет и с другими элементами, порождая самые разные, зачастую непредсказуемые соединения. Иными словами, мы получим не «единую» молекулу, а случайный набор молекул, зависящий от того, какие атомы случайно окажутся рядом. К тому же, благородные газы (они же инертные), вроде неона или аргона, предпочтут остаться «в стороне», не вступая в реакции.
Если простое смешивание кажется недостаточно захватывающим, давайте добавим немного динамики. Представим, что мы разгоняем атомы до скорости, близкой к скорости света, подобно тому, как это происходит в Большом адронном коллайдере. Казалось бы, это должно привести к слиянию ядер и созданию каких-то экзотических элементов. Но и здесь нас ждет разочарование.
Скорее всего, мы получим так называемую кварк-глюонную плазму — состояние материи, которое, по мнению ученых, существовало в первые мгновения после Большого взрыва. Однако, это состояние крайне нестабильно и быстро распадается. Более того, для такого эксперимента нам понадобился бы не один, а 118 коллайдеров, что, очевидно, нереально.
| Другой способ провести наш эксперимент — смешать не отдельные атомы, а целые образцы элементов в закрытом контейнере. Кислород, вступив в реакцию с щелочными металлами вроде лития или натрия, моментально воспламенится. Температура в контейнере резко повысится, а порошкообразный углерод, вероятнее всего, также загорится. Не стоит забывать и о радиоактивных элементах, которые превратят эту смесь в опасный «адский котел». | 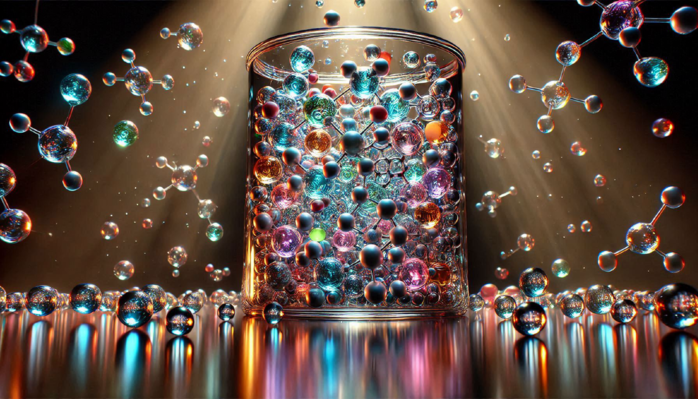 |
Но что же будет после того, как буря утихнет? К сожалению, результат окажется таким же банальным, как и в первых двух сценариях. Кислород и углерод образуют угарный и углекислый газ, азот останется в неизменном состоянии, а благородные газы и металлы, такие как золото и платина, вообще не вступят в реакции. Все остальное образует ржавчину и соли.
В чем же причина столь скучного финала? В дело вступает термодинамика — наука о равновесии. Системы, предоставленные самим себе, всегда стремятся к состоянию с минимальной энергией, к стабильности. В нашем случае это означает образование простых, распространенных соединений, таких как углекислый газ, вода, соль и ржавчина.
Так что, несмотря на всю свою потенциальную зрелищность, наш эксперимент скорее приведет к хаосу и разрушению, чем к созданию чего-то нового и необычного.
Природа, увы, не всегда готова соответствовать нашим фантазиям, предпочитая стабильность и простоту. Но, возможно, именно в этой простоте и кроется ее истинная красота.
В настоящий момент она заканчивается на 118 элементе, оганесоне. Кстати, назван он в честь Юрия Оганесяна(рассказ о нем ниже 👇), руководителя группы физиков, получивших 4 элемента со 104 по 107 — и это практически уникальный случай, поскольку за всю историю лишь два элемента называли в честь кого-либо при жизни (оганесон и сиборгий).
Но никто не поручится, что со временем не синтезируют 119-ый и какие-либо еще элементы. К тому же уже были случаи, когда синтезировали элемент, который шел не сразу после последнего известного — а через один или даже несколько. Тот же оганесон открыли до открытия 117-го элемента, теннесина — клеточка 117 в таблице оставалась некоторое время пустой.
 | А вот есть ли некий самый-самый последний элемент, после которого уже ничего быть не может — мы не знаем. Дело в том, что стабильность элемента зависит от размера и массы атомного ядра далеко не напрямую (тогда все было бы очень просто: чем тяжелее, тем нестабильнее), а довольно нетривиальным и даже не до конца понятным образом. Не будем вдаваться в этом кратком ответе в дебри ядерной физики, а лишь обозначим корень проблемы: когда вы имеете дело с сотнями нуклонов (протоны и нейтроны называют общим словом «нуклоны», от nucleus – «ядро»), то нужно учитывать, что все эти частицы взаимодействуют между собой, влияют друг на друга, и просчитать «в лоб« их поведение становится невозможным. |
Достаточно распространенная, но пока не твердо доказанная гипотеза гласит, что где-то за перечнем короткоживущих элементов могут быть относительно стабильные. Эту гипотезу называют «остров стабильности», о ней много пишут, но она и не доказана, и не опровергнута. Постоянный поиск, то есть упорные попытки синтезировать возможно более тяжелые атомные ядра, продолжается.
14 апреля академику РАН Юрию Оганесяну, в честь которого назван 118-й элемент таблицы Менделеева, исполняется 92 года.

Больше половины из них Юрий Цолакович Оганесян посвятил ядерной физике. И сейчас под его руководством идут эксперименты над выявлением новых сверхтяжелых элементов таблицы Менделеева в лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флёрова в ОИЯИ в Дубне. Сам академик Оганесян говорит, что открытие новых элементов еще впереди.
Научные исследования академика Оганесяна, как и он сам, давно стали легендой. Он соавтор открытия нескольких тяжелых элементов таблицы Менделеева. В результате синтеза еще в 1960–1970-е годы были открыты 104-й элемент — резерфордий, 105-й — дубний, 106-й — сиборгий, 107-й — борий. В честь Юрия Оганесяна назван элемент— оганесон, на сегодня последний, 118-й по номеру в таблице Менделеева, открытый в 2006 году. Искусственно синтезированный, номинально он считается инертным газом, представляющим при нормальных условиях одноатомный бесцветный газ с низкой химической реактивностью.
Синтезировать сверхтяжелые химические элементы ученые начали еще в 40-е годы прошлого века. Первыми такими элементами стали нептуний и плутоний, которым присвоили номера 93 и 94 в таблице Менделеева. С тех пор она существенно расширилась. Сверхтяжелые элементы создавались искусственно, в природе их не существует. Для опытов берут два атома с общим числом протонов, равным количеству протонов в ядре будущего нового элемента, и на высокой скорости сталкивают их в ускорителе. При точном попадании одного ядра в другое происходит их слияние, и возникает ядро нового элемента. «Непосвященным кажется, что процесс простой и даже примитивный, однако на деле он может занимать годы научных экспериментов»,— говорит академик Оганесян.
Прежде чем в нашей стране начали проводить научные эксперименты в области ядерной физики, физикам пришлось пройти непростой путь. В конце 1950-х годов запустить мощный ускоритель для научных экспериментов в области ядерной физики советская наука еще только планировала, но специалисты для работы на нем уже были. Их готовили на базе Московского механического института (ММИ). Чтобы обучить людей, способных заниматься еще и инженерией, в вузе были созданы пять новых кафедр: атомной физики, теоретической физики, ядерной физики, прикладной ядерной физики и точной механики. Студенты нового вуза по уровню знаний должны были соответствовать студентам ведущих в то время вузов МГУ и Бауманки, при этом за годы учебы в ММИ их обучали приличным инженерным навыкам, готовя их к созданию новой атомной техники. Одним из выпускников нового вуза был и нынешний академик Юрий Оганесян.

На выбор его научной карьеры повлиял случай. Он родился в Ростове-на-Дону в семье архитектора и должен был продолжить дело отца. Однако по прибытии в Москву подавать документы в архитектурный он не стал. Поддался общему азарту друзей, которые приехали поступать в Московский механический институт, подал документы туда же и довольно легко получил студенческий билет. Он признается, что поначалу учеба давалась ему нелегко, так как он был нацелен на поступление в архитектурный институт, но примерно на втором курсе он, что называется, втянулся и окончил вуз в 1956 году.
Работать он пошел по новой, модной в то время специальности и с тех пор не изменяет ей. Что, впрочем, вполне логично для тех лет — «золотого века» ядерной физики и прорыва в космос. Как писал поэт Борис Слуцкий:
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете,
Дело в мировом законе.
…Это самоочевидно.
Спорить просто бесполезно.
Так что даже не обидно,
А скорее интересно
Наблюдать, как, словно пена,
Опадают наши рифмы
И величие степенно
Отступает в логарифмы.
«Я окончил вуз по профильной специальности “ускорители” и получил приглашение на работу в Институт атомной энергии к академику Флёрову в Московский институт атомной энергии. Мы, ученые, работали над созданием пучков тяжелых ионов на старом маленьком ускорителе. Опыты шли тяжелее и дольше, чем могли бы: нужного оборудования не было, нужна была господдержка, но дальше разговоров в научном сообществе дело не шло»,— рассказывает Юрий Оганесян.
В одну из ночных смен, в которых работал молодой ученый, к ним в лабораторию приехал сам академик Курчатов и спросил, как продвигаются научные эксперименты. Курчатова уважали и боялись, говорить с ним прямо мало кто мог себе позволить. Но молодой научный сотрудник Юрий Оганесян, не скрывая ничего, рассказал ведущему отечественному ядерщику обо всех бытовых и инфраструктурных сложностях, сопряженных с научными экспериментами, а также о том, что ему нужно для работы и зачем.
«Курчатов велел нам в письменной форме изложить, что нам необходимо для работы, и мы с академиком Флёровым это сделали. Через год в Дубне стали строить современный ускоритель, который запустили в 1960-м. Я переехал сюда и работаю с тех пор. Это была лучшая ускорительная техника тяжелых ионов в мире. В этом мы держали рекорд с самого начала. И пока его держим»,— говорит Юрий Оганесян.

После запуска нового ускорителя Юрий Оганесян перебрался в Дубну из Москвы, и с тех пор это его вторая научная родина. Здесь в ОИЯИ в 1970 году он защитил диссертацию «Деление возбужденных ядер и возможности синтеза новых изотопов» и получил степень доктора физико-математических наук, затем возглавил лабораторию ядерных реакций им. Г. Флёрова ОИЯИ. Научная карьера шла своим чередом. Членом-корреспондентом АН СССР он стал в 1990 году, а академиком РАН — в 2003 году, сегодня кроме всего прочего Юрий Оганесян является председателем научного совета РАН по прикладной ядерной физике.
За свои работы он не раз становился лауреатом научных премий, он является обладателем десяти почетных научных званий, среди которых почетный профессор университета Мессины в Италии, почетный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова. Несмотря на очевидные достижения, говорить о своем личном вкладе в российскую ядерную физику и науку ученый не любит и прерывает подобные вопросы фразой: «Пожалуйста, спросите об этом у моих коллег».
Но его достижения и так всем известны. Например, он вел основные научные исследования по определению механизма взаимодействия сложных ядер и доказал влияние ядерной структуры на массовое движение ядер в процессах их слияния и деления. Оганесян в середине 1970-х открыл холодное слияние массивных ядер, и этот метод применяют мире в лабораторных исследованиях синтеза новых элементов. Он автор фундаментальных трудов по синтезу новых элементов на пучках тяжелых ионов.
Об отечественной науке академик может рассуждать часами. На вопрос, является ли 118-й элемент конечным в таблице Менделеева, он уверяет, что допускает появление новых элементов, вплоть до 180. Однако вопрос, насколько долго будет существовать их ядро, до сих пор является предметом долгих научных дискуссий и экспериментов. Несколько лет назад в Дубне открыли новую лабораторию с ускорителем помощнее, получившую в научном сообществе название фабрика сверхтяжелых элементов. И сейчас мировых аналогов подмосковной лаборатории не существует.

Сегодня академик Оганесян продолжает вести активный образ жизни, как и 30, и 50 лет назад. Просыпается в пять часов утра, старается проходить ежедневно пешком 3–4 км, говорит, что неподвижный образ жизни для него неудобен и неприемлем.
«Занятия спортом помогали ясно мыслить, держать себя в хорошей форме. Эта привычка сохранилась до сегодняшних дней и не изменится»,— уверен Юрий Оганесян.
🌟 Поздравляем все блестящие умы Российской Федерации - всех наших ученых - с Днем науки!
Наука - это огромные возможности и мощь.
Пусть ваше любопытство и преданность делу помогут раскрыть самые величайшие тайны Вселенной! Желаем удачи на этом нелегком пути, оптимизма, здоровья и сил, необходимых для научных свершений.
Ваша работа вдохновляет грядущие поколения. Пусть каждый жаждущий ответов на свои вопросы найдет их, решит свои самые сложные задачи, познает непознанное и откроет новые горизонты знаний.
Ваша преданность исследованиям и тяга к инновациям подпитывает прогресс и прокладывает путь к светлому будущему всего человечества.
Мечтайте и превращайте ваши мечты в реальность! Продолжайте расширять границы знаний.
Продолжайте исследовать, экспериментировать и совершать революционные открытия. Ясного ума, вдохновения, выдержки, терпения и вечной любви к науке!
Желаем, чтобы ваша жажда знаний приводила к потрясающим результатам!
Пусть этот праздник вдохновляет на научную деятельность, новые идеи и открытия, смелые решения! Плодотворной и результативной работы!
Желаем, чтобы наша страна всегда оставалась лидером научного прогресса. Побольше интересных идей, успешных проектов, важных открытий, значимых результатов и грандиозных прорывов в науке.
Пусть ваши умы всегда будут ясными и проницательными. Сердечно желаем вам здоровья и удачи в достижении ваших целей! Всего самого наилучшего. С Днем науки!

🌟 Научные идеи формируют мир, в котором мы живем. Российская наука — это не просто история славных достижений, это активный процесс, который формирует наше общество и открывает новые горизонты для будущих поколений.
🎶 В. Высоцкий — «Товарищи ученые»
Сатирическая композиция, без которой не обходился ни один концерт артиста для работников науки. Своего рода монолог люмпена: исследователям, измученным синхрофазотронами и гамма-излучением, предлагается отправиться на сбор картошки, чтобы понять — надо быть ближе к земле, а там и с любой сложной задачей разберемся.
Классика, не теряющая актуальности.
Анимационный сериал, повествующий о главных открытиях и достижения российских ученых.
1.История мирного атома и термоядерный синтез.
2.История изучения Арктики и Антарктики.
3.История радиоэлектроники.
4.История авиастроения.
5.История отечественной школы медицины.
6.История космонавтики
7.История изобретения лазеров.
источник1
источник2
источник3
источник4
источник5
Комментарии (5):
Был этот мир глубокой тьмой окутан.
Да будет свет! И вот явился Ньютон.
Но сатана недолго ждал реванша.
Пришел Эйнштейн - и стало все, как раньше.

Обычная, видимая материя (такая как звезды и планеты) составляет менее 5% от Вселенной.
Остальные 95% Вселенной — это невидимая темная энергия (68%) и темная материя (27%).
Это значит, что мы ничего не знаем о 95% Вселенной.

Голос Вселенной
https://cloud.mail.ru/public/m5io/REUbgHWAN
Да будет свет! И вот явился Ньютон.
Но сатана недолго ждал реванша.
Пришел Эйнштейн - и стало все, как раньше.

Обычная, видимая материя (такая как звезды и планеты) составляет менее 5% от Вселенной.
Остальные 95% Вселенной — это невидимая темная энергия (68%) и темная материя (27%).
Это значит, что мы ничего не знаем о 95% Вселенной.

Голос Вселенной
https://cloud.mail.ru/public/m5io/REUbgHWAN
liudmila_leto
08-02-2025-18:01
удалить
Людмила. Космос это среда в которой возникла Вселенная.
Она состоит из первичных атомов, образовавшихся в космосе в момент Большого взрыва 13,7 млрд лет назад.
Физика и химия изучает атомы, но кроме этих наук есть еще сотни, занимающихся тем же.
Все мы вышли из космоса. Галактики, звезды, планеты и мы с вами состоим из атомов, которые родились в сердце взорвавшейся звезды миллиарды лет назад. Все атомы водорода, в нашем теле, кальция в костях, железа в крови, и еще десяток элементов были созданы во времена сотворения Вселенной.
Поэтому понятие науки более широкое, чем только физика и химия.
Но начало всему - космос

Она состоит из первичных атомов, образовавшихся в космосе в момент Большого взрыва 13,7 млрд лет назад.
Физика и химия изучает атомы, но кроме этих наук есть еще сотни, занимающихся тем же.
Все мы вышли из космоса. Галактики, звезды, планеты и мы с вами состоим из атомов, которые родились в сердце взорвавшейся звезды миллиарды лет назад. Все атомы водорода, в нашем теле, кальция в костях, железа в крови, и еще десяток элементов были созданы во времена сотворения Вселенной.
Поэтому понятие науки более широкое, чем только физика и химия.
Но начало всему - космос

liudmila_leto
08-02-2025-19:28
удалить
Ответ на комментарий oberon-00 #
Александр, приятно почувствовать себя несмышленной ученицей начальной школы.))))Прямо 60 лет долой)))
Просто и вкусно - масленница
Комментарии (5):
вверх^
Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.
Дневник В День российской науки: смешаем все химические элементы, узнаем о "Легенда №118" и ещё кое-что ;-) | Camelot_Club - Клуб Камелот |
Лента друзей Camelot_Club
/ Полная версия
Добавить в друзья
Страницы:
раньше»