Книга самурая
Ульса
13-02-2006 17:52
 [150x232]
[150x232]
Книга самурая: Юдзан Дайдодзи, Будосесинсю, Ямамото Цунзтомо, Хагакурэ, Юкиио Мисима, Хагакурэ Нюмон
Издательство: Северо-Запад Пресс, 2003 г.
Твердый переплет, 384 стр.
В этот раз я скорее хочу обратить внимание на очень удачное издание, чем на сами книги. Будосёсинсю и Хагакуре достаточно известны, чтобы не нуждаться в дополнительной рекламе. Но именно в этом томе они дополняются замечательным предисловием и комментариями Юкио Мисимы к его любимой книге.
В электронном виде с двумя главными самурайскими книгами можно познакомиться здесь:
Юдзан Дайдодзи –Будосеёсинсю
Ямамото Цунэтомо – Хагакурэ
+Юкио Мисима Хагакуре Ньюмон
но я все-таки советую, если есть такая возможность, приобрести книгу в бумажном виде, она все еще встречается на полках книжных магазинов, кроме того, ее можно поискать в онлайновых магазинах через систему www.bookler.ru
Несколько слов для тех, у кого не будет предисловия
Для чего могут пригодиться эти книги в наши дни? Умение отделять главное от второстепенного, выполнять свою работу наилучшим образом, сохранять чувство собственного достоинства и не ставить других людей в неловкое положение – все это может пригодиться и сегодня.
комментарии: 2
понравилось!
вверх^
к полной версии
 [150x232]
[150x232]Книга самурая: Юдзан Дайдодзи, Будосесинсю, Ямамото Цунзтомо, Хагакурэ, Юкиио Мисима, Хагакурэ Нюмон
Издательство: Северо-Запад Пресс, 2003 г.
Твердый переплет, 384 стр.
В этот раз я скорее хочу обратить внимание на очень удачное издание, чем на сами книги. Будосёсинсю и Хагакуре достаточно известны, чтобы не нуждаться в дополнительной рекламе. Но именно в этом томе они дополняются замечательным предисловием и комментариями Юкио Мисимы к его любимой книге.
В электронном виде с двумя главными самурайскими книгами можно познакомиться здесь:
Юдзан Дайдодзи –Будосеёсинсю
Ямамото Цунэтомо – Хагакурэ
+Юкио Мисима Хагакуре Ньюмон
но я все-таки советую, если есть такая возможность, приобрести книгу в бумажном виде, она все еще встречается на полках книжных магазинов, кроме того, ее можно поискать в онлайновых магазинах через систему www.bookler.ru
Несколько слов для тех, у кого не будет предисловия
Для чего могут пригодиться эти книги в наши дни? Умение отделять главное от второстепенного, выполнять свою работу наилучшим образом, сохранять чувство собственного достоинства и не ставить других людей в неловкое положение – все это может пригодиться и сегодня.
не все то интересно, что про Японию
Ульса
13-02-2006 15:36
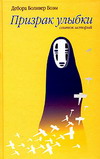
Дебора Боливер Боэм – Призрак улыбки
Есть такой класс книг - «гайдзинские художественные про Японию». Бывают они разной степени удачности. «Призрак улыбки» - как раз пример неудачной книги для японофила.
Всякий, открывавший когда-либо волшебные истории о чудесах, призраках, лисах, прекрасных девах и монахах, вмиг узнает перелицованный матерьяльчик. Все самое интересное, оно содержиться в оригинале – от таких сборников и в самом деле трудно оторваться. Может ли история стать интереснее оттого, что ее перессказали заново, дав героям другие имена и телефонные аппараты? Может, если этим авторский вклад не ограничивается.
Видимо, книга написана в расчете на соотечественников, которые любят «все японское» (суши-бары, караоке и то, что они принимают за гейш), но не настолько, чтобы проникнуться японским фантастическим рассказом в оригинале.
Лично я предпочитаю адекватный перевод с комментариями адаптированному пересказу.
комментарии: 2
понравилось!
вверх^
к полной версии
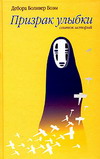
Дебора Боливер Боэм – Призрак улыбки
Есть такой класс книг - «гайдзинские художественные про Японию». Бывают они разной степени удачности. «Призрак улыбки» - как раз пример неудачной книги для японофила.
Всякий, открывавший когда-либо волшебные истории о чудесах, призраках, лисах, прекрасных девах и монахах, вмиг узнает перелицованный матерьяльчик. Все самое интересное, оно содержиться в оригинале – от таких сборников и в самом деле трудно оторваться. Может ли история стать интереснее оттого, что ее перессказали заново, дав героям другие имена и телефонные аппараты? Может, если этим авторский вклад не ограничивается.
Видимо, книга написана в расчете на соотечественников, которые любят «все японское» (суши-бары, караоке и то, что они принимают за гейш), но не настолько, чтобы проникнуться японским фантастическим рассказом в оригинале.
Лично я предпочитаю адекватный перевод с комментариями адаптированному пересказу.
мир ивы и цветов
Ульса
09-02-2006 23:55
 [200x300]
[200x300]
Лиза Делби- Гейша
М, Крон-пресс 1999 год.
На фоне всеобщего интереса к одноименному фильму вспомнила о купленной когда-то по случаю книге американского антрополога. В отличие от прочей «гайдзинской» литературы, содержащей в своем названии завораживающее слово «гейша», это очень обстоятельное исследование.
Лизу Делби интересовало не то, что думают о гейшах американские журналисты, а что думают о себе сами гейши, как оценивают свою роль в обществе. Автор жила в Японии, общалась с гейшами, женщинами, которые оставили ремесло и теми, кто учат ему, с содержателями заведений, опрашивала гейш из разных городов и сама прошла обучение в Киото. Поэтому книга получилась скорее личной, чем научной, но тем она и интересна. Сбор материала начался в 70-х годах, в 1998 книга была дополнена и издана.
Прочитав ее, можно узнать
- о том, как становятся гейшами и как ими перестают быть
- об истории гейш - о гейшах и проституции
- о том, как была модернизирована профессия гейши в начале 20 века
- о том, как Лиза стала Итигику и вышла в свет
- как проходит вечер с гейшами
- о разновидностях гейш
- о музыкальных инструментах, языке кимоно и других секретах элегантности гейши
Несмотря на интересные исторически справки, лично меня больше увлекли главы «взгляда изнутри» о реальных женщинах и эпизодах, случившихся с автором во время обучения и нескольких выходов на банкеты.
Отрывки
upd 2008 теперь продается в такой обложке
комментарии: 3
понравилось!
вверх^
к полной версии
 [200x300]
[200x300]Лиза Делби- Гейша
М, Крон-пресс 1999 год.
На фоне всеобщего интереса к одноименному фильму вспомнила о купленной когда-то по случаю книге американского антрополога. В отличие от прочей «гайдзинской» литературы, содержащей в своем названии завораживающее слово «гейша», это очень обстоятельное исследование.
Лизу Делби интересовало не то, что думают о гейшах американские журналисты, а что думают о себе сами гейши, как оценивают свою роль в обществе. Автор жила в Японии, общалась с гейшами, женщинами, которые оставили ремесло и теми, кто учат ему, с содержателями заведений, опрашивала гейш из разных городов и сама прошла обучение в Киото. Поэтому книга получилась скорее личной, чем научной, но тем она и интересна. Сбор материала начался в 70-х годах, в 1998 книга была дополнена и издана.
Прочитав ее, можно узнать
- о том, как становятся гейшами и как ими перестают быть
- об истории гейш - о гейшах и проституции
- о том, как была модернизирована профессия гейши в начале 20 века
- о том, как Лиза стала Итигику и вышла в свет
- как проходит вечер с гейшами
- о разновидностях гейш
- о музыкальных инструментах, языке кимоно и других секретах элегантности гейши
Несмотря на интересные исторически справки, лично меня больше увлекли главы «взгляда изнутри» о реальных женщинах и эпизодах, случившихся с автором во время обучения и нескольких выходов на банкеты.
Отрывки
upd 2008 теперь продается в такой обложке
Нопэрапон
Ashura
04-02-2006 18:16
 [200x316]
[200x316]
Нопэрапон, или По Образу и Подобию
Генри Лайон Олди.
Сразу скажу - к Японии эта книга имеет отношение скорее косвенное, чем прямое. Метонимическое, я бы сказала, если бы про книги так говорили.
Текст более, чем художественный. Действие книги происходит в двух местах сразу - в современной Москве и в древней Японии, повествование фантастически-детективное, и я бы, в общем, умолчала здесь об этой книге, если бы не одно "но".
Генри Лайон Олди великолепно умеет передавать настроение и атмосферу эпохи, о которой рассказывает. Читая эту книгу, вы узнаете о Японии больше, чем штудируя справочники по ее культуре. Японский театр, традиции дворянства, духи, боги, верования - это все так естественно вплетено в канву повествования, что вы даже не задумаетесь о том, что быль, а что навь, и где еще события летописей, а где уже начинается легенда.
Заметьте, о самом сюжете я не сказала ни слова, а он тоже дорогого стоит...
Рекомендую всем - просто чтобы почувствовать.
фрагмент из книги
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
 [200x316]
[200x316]Нопэрапон, или По Образу и Подобию
Генри Лайон Олди.
Сразу скажу - к Японии эта книга имеет отношение скорее косвенное, чем прямое. Метонимическое, я бы сказала, если бы про книги так говорили.
Текст более, чем художественный. Действие книги происходит в двух местах сразу - в современной Москве и в древней Японии, повествование фантастически-детективное, и я бы, в общем, умолчала здесь об этой книге, если бы не одно "но".
Генри Лайон Олди великолепно умеет передавать настроение и атмосферу эпохи, о которой рассказывает. Читая эту книгу, вы узнаете о Японии больше, чем штудируя справочники по ее культуре. Японский театр, традиции дворянства, духи, боги, верования - это все так естественно вплетено в канву повествования, что вы даже не задумаетесь о том, что быль, а что навь, и где еще события летописей, а где уже начинается легенда.
Заметьте, о самом сюжете я не сказала ни слова, а он тоже дорогого стоит...
Рекомендую всем - просто чтобы почувствовать.
отоги-дзоси
Ульса
29-01-2006 13:37
“Гэндзи-обезьяна: японские рассказы 14 -16 вв. -Отоги-дзоси”, М, 1994
я совсем не уверена, что вам попадется эта книга коротких назидательных рассказов, но не могу не поделиться предисловием к ней. статья переводчицы, Марии Торопыгиной "Отоги-дзоси в истории японской культуры" будет интересна не только тем, кто интересуется историей японской литературы 14-16 века, но и тем, кто интересуется историей японского книгопечатания и различных театров.
Упоминаются: отоги-дзоси, ута-моноготари, Оно-но Комати, танцовщицы-серабёси, рэнга, ковака, дзёрури, Нара-эхон и кое-что еще.
кстати, термин отоги-дзоси, короткие рассказы для рассказывания, обладающие увлекательным сюжетом и неизменно назидательные, может быть знаком любителям аниме по названию "Отогоизуши" - неисповедимы пути транслитерации туда-обратно ;-]
итак, специально для всех, кому это может быть интересно, я отсканировала это предисловие и выложила его здесь:
http://ulsa.mylivepage.com/file/5
скачивайте и комментируйте. если на "вашей японской полке" тоже есть не самые распространенные книги, пподдержите мое начинание со сканированием. этот текст не последний ;-]
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
“Гэндзи-обезьяна: японские рассказы 14 -16 вв. -Отоги-дзоси”, М, 1994
я совсем не уверена, что вам попадется эта книга коротких назидательных рассказов, но не могу не поделиться предисловием к ней. статья переводчицы, Марии Торопыгиной "Отоги-дзоси в истории японской культуры" будет интересна не только тем, кто интересуется историей японской литературы 14-16 века, но и тем, кто интересуется историей японского книгопечатания и различных театров.
Упоминаются: отоги-дзоси, ута-моноготари, Оно-но Комати, танцовщицы-серабёси, рэнга, ковака, дзёрури, Нара-эхон и кое-что еще.
кстати, термин отоги-дзоси, короткие рассказы для рассказывания, обладающие увлекательным сюжетом и неизменно назидательные, может быть знаком любителям аниме по названию "Отогоизуши" - неисповедимы пути транслитерации туда-обратно ;-]
итак, специально для всех, кому это может быть интересно, я отсканировала это предисловие и выложила его здесь:
http://ulsa.mylivepage.com/file/5
скачивайте и комментируйте. если на "вашей японской полке" тоже есть не самые распространенные книги, пподдержите мое начинание со сканированием. этот текст не последний ;-]
японская мифология
Ульса
16-01-2006 23:26
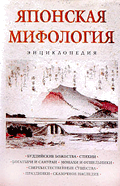
Японская мифология
Энциклопедия
Эксмо 2005
Начнем с того, что это НЕ энциклопедия, скорее уж хрестоматия в пересказе и с пояснениями.
В предисловии даются некоторые вводные о развитии системы японской мифологии и источниках сборника. Основные части:
Время богов
Воины и святые
Духи
Праздники, традиции и символы
Имеется также словарь японских имен и названий и имена упоминавшихся божеств.
С одной стороны, вы узнаете, чем тысячерукая Канон отличается от Канон-с-лошадиной-головой, как легенды объясняют то, что для измерения ткани и для измерения металла использовались разные меры длины, что делали иероглифы мастера Кобо Дайси с насмешниками, откуда пошла традиция наряжать статуи Дзидзо в шапочки и шарфы и пр. С другой стороны, если вы не собираетесь участвовать в викторине, книга не без оснований может показаться поверхностной и нелогичной. Тем более что «пояснения» не блещут глубиной. Расплывчатых фраз вроде «Но Япония полна резких и удивительных контрастов, и все изящное и прекрасное сочетается здесь с уродливым и ужасным» человеку, интересующемуся проблемой, будет маловато.
Резюме: если у вас уже есть Кодзики моноготари, сказание о Есицуне, сборник историй о чудесах – докупите к ним сборник сказок под редакцией Садоковой и сэкономьте на бестолковой «Японской мифологии». Но и начинать чтение по теме с нее я бы тоже не советовала (каша в голове обеспечена). Лучшее, что можно сделать с книгой – открыть ее на списке литературы и переписать оттуда названия, с которыми вы пойдете в библиотеку.
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
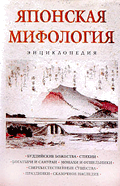
Японская мифология
Энциклопедия
Эксмо 2005
Начнем с того, что это НЕ энциклопедия, скорее уж хрестоматия в пересказе и с пояснениями.
В предисловии даются некоторые вводные о развитии системы японской мифологии и источниках сборника. Основные части:
Время богов
Воины и святые
Духи
Праздники, традиции и символы
Имеется также словарь японских имен и названий и имена упоминавшихся божеств.
С одной стороны, вы узнаете, чем тысячерукая Канон отличается от Канон-с-лошадиной-головой, как легенды объясняют то, что для измерения ткани и для измерения металла использовались разные меры длины, что делали иероглифы мастера Кобо Дайси с насмешниками, откуда пошла традиция наряжать статуи Дзидзо в шапочки и шарфы и пр. С другой стороны, если вы не собираетесь участвовать в викторине, книга не без оснований может показаться поверхностной и нелогичной. Тем более что «пояснения» не блещут глубиной. Расплывчатых фраз вроде «Но Япония полна резких и удивительных контрастов, и все изящное и прекрасное сочетается здесь с уродливым и ужасным» человеку, интересующемуся проблемой, будет маловато.
Резюме: если у вас уже есть Кодзики моноготари, сказание о Есицуне, сборник историй о чудесах – докупите к ним сборник сказок под редакцией Садоковой и сэкономьте на бестолковой «Японской мифологии». Но и начинать чтение по теме с нее я бы тоже не советовала (каша в голове обеспечена). Лучшее, что можно сделать с книгой – открыть ее на списке литературы и переписать оттуда названия, с которыми вы пойдете в библиотеку.
Юкио Мисима «Золотой храм».
Сканни
05-01-2006 21:27
Роман знаменитого японского писателя основан на реальном событии – в 1950 году молодой монах сжег одну из архитектурных достопримечательностей Японии – знаменитый Золотой Храм в Киото. В 1956 году Мисима написал свой взгляд на эти события через призму видения душевных страстей послушника – своеобразный взгляд изнутри. Он считал, что смерть прекрасного делает его еще более совершенным, и, конечно, не мог обойти такое событие. Что из этого вышло – как говорят литературные критики – «эстетический манифест писателя, шедевр его творчества» и, уже без кавычек – одно из самых читаемых произведений японской литературы во всем мире. До бывших просторов СССР это произведение докатилось без малого через полвека. То, что Мисиму не переводили объяснялось советским руководством довольно просто: «…идеолог ультраправых кругов, М. выступал за возрождение верноподданнических традиций, проповедовал фашистские идеи…» (Большая Советская Энциклопедия, 3-е издание). Действительно, пропустить в советские массы роман, написанный человеком с крепкими политическими устоями, отличающимися от общеприянтых и единственно верных, да еще и совершившего харакири, которое было в Японии, кстати, расценено как политический акт только ультраправыми. Националисты посчитали это проявлением самурайского духа и по сей день отмечают годовщину его смерти – 25 ноября 1970 года. Мисиме было 45 лет и за свою короткую, но бурную жизнь он успел сделать невероятно много: 40 романов, 18 пьес, множество сборников и эссе. Занимался он театром, кино (15 романов из его 40 были экранизированы еще при его жизни), был актером, дирижером и любил так называемые martial arts – кендо, каратэ, и, помимо этого – тяжелую атлетику. Кроме того, в последние годы жизни он действительно увлекся монархизмом и самурайскими традициями и даже организовал «игрушечную армию капитана Мисимы». Все это, несомненно, оказывало влияние на его писательское творчество в немалой степени. Для меня широкий круг интересов писателя является в некоей мере идеалом – человек должен быть разносторонне развит и должен обладать массой интересов, а не становится специалистом в узкой области. Так, это я отвлеклась.
И вот, среди ряда блистательных романов оказался «Золотой храм» - «Кинкакудзи». Идея романа в том, возможна ли жизнь без прекрасного и, в некоторой степени роман автобиографичен, только здесь прекрасное обличено во вполне конкретный объект – Золотой храм – святыню многих поклонников. Отношения с Храмом похожи на вполне человеческую любовь – ненависть, где от ненависти до любви – долгий путь и наоборот, от любви до ненависти – один шаг. Герой романа Мидзогути грезит храмом все свое детство, мечтает увидеть его вживую, первая встреча оказывается полна разочарования – как нечто столь лишенное красоты может быть прекрасным – удивляется Мидзогути, а потом происходит стадия привыкания и влюбленности в это сооружение: «Полюби меня, Золотой Храм, пусть не сразу. Открой мне свою тайну. Я уже почти вижу твою красоту…». Но, полюбив Храм, Мидзогути страстно жаждет его смерти – здесь ярко проявляется убежденность писателя в красоте смерти и его любовь к ней. Страстно жаждет смерти Храма ибо почти очеловечивает его, поэтому здесь применимо слово «смерть». И когда он разочаровывается, и вместе с тем, как бы испытывает облегчение от того, что Храм остался невридим – он задумывает святотатство – сожжение Храма. К этому поступку он идет долго – через тысячи мелких грехов и святотатств. «Встретишь Будду – убей Будду, встретишь патриарха – убей патриарха, встретишь святого – убей святого, встретишь отца и мать – убей отца и мать, встретишь родича – убей и родича. Лишь так ты достигнешь просветления и избавления от бренности бытия» - строки из дзэн-буддистского трактата «Риндзайроку», звучавшие из уст Касиваги, который играет в романе роль дъявола, гордящегося своим уродством, превращенным в нечто гротескное влияют на героя перед самым сожжением, отчего он испытывает прилив сил. Есть в романе и роль ангела – но добро у Мисимы настолько бледно и невыразительно – является воплощением образцовости, что я едва могу припомнить его имя – сотоварища Мидзогути.
И когда Храм сожжен – душа его успакаивается и входит в гармонию со внешним миром. Хотя, конечно, как посмортеть, ибо конец романа неоднозначен: «Еще поживем…» говорит он хладнокровно. Цена свободы от гнета прекрасного – это уничтожение души, ибо она тесно связана с этим прекрасным. Так что по Мисиме зло имеет в этом мире больше силы, чем добро.
Как знать, может быть, он и прав?
Советую вам почитать этот роман и жду ваших комментариев к своему обзору. Будет приятно выслушать точку зрения, отличную от моей.
комментарии: 2
понравилось!
вверх^
к полной версии
Роман знаменитого японского писателя основан на реальном событии – в 1950 году молодой монах сжег одну из архитектурных достопримечательностей Японии – знаменитый Золотой Храм в Киото. В 1956 году Мисима написал свой взгляд на эти события через призму видения душевных страстей послушника – своеобразный взгляд изнутри. Он считал, что смерть прекрасного делает его еще более совершенным, и, конечно, не мог обойти такое событие. Что из этого вышло – как говорят литературные критики – «эстетический манифест писателя, шедевр его творчества» и, уже без кавычек – одно из самых читаемых произведений японской литературы во всем мире. До бывших просторов СССР это произведение докатилось без малого через полвека. То, что Мисиму не переводили объяснялось советским руководством довольно просто: «…идеолог ультраправых кругов, М. выступал за возрождение верноподданнических традиций, проповедовал фашистские идеи…» (Большая Советская Энциклопедия, 3-е издание). Действительно, пропустить в советские массы роман, написанный человеком с крепкими политическими устоями, отличающимися от общеприянтых и единственно верных, да еще и совершившего харакири, которое было в Японии, кстати, расценено как политический акт только ультраправыми. Националисты посчитали это проявлением самурайского духа и по сей день отмечают годовщину его смерти – 25 ноября 1970 года. Мисиме было 45 лет и за свою короткую, но бурную жизнь он успел сделать невероятно много: 40 романов, 18 пьес, множество сборников и эссе. Занимался он театром, кино (15 романов из его 40 были экранизированы еще при его жизни), был актером, дирижером и любил так называемые martial arts – кендо, каратэ, и, помимо этого – тяжелую атлетику. Кроме того, в последние годы жизни он действительно увлекся монархизмом и самурайскими традициями и даже организовал «игрушечную армию капитана Мисимы». Все это, несомненно, оказывало влияние на его писательское творчество в немалой степени. Для меня широкий круг интересов писателя является в некоей мере идеалом – человек должен быть разносторонне развит и должен обладать массой интересов, а не становится специалистом в узкой области. Так, это я отвлеклась.
И вот, среди ряда блистательных романов оказался «Золотой храм» - «Кинкакудзи». Идея романа в том, возможна ли жизнь без прекрасного и, в некоторой степени роман автобиографичен, только здесь прекрасное обличено во вполне конкретный объект – Золотой храм – святыню многих поклонников. Отношения с Храмом похожи на вполне человеческую любовь – ненависть, где от ненависти до любви – долгий путь и наоборот, от любви до ненависти – один шаг. Герой романа Мидзогути грезит храмом все свое детство, мечтает увидеть его вживую, первая встреча оказывается полна разочарования – как нечто столь лишенное красоты может быть прекрасным – удивляется Мидзогути, а потом происходит стадия привыкания и влюбленности в это сооружение: «Полюби меня, Золотой Храм, пусть не сразу. Открой мне свою тайну. Я уже почти вижу твою красоту…». Но, полюбив Храм, Мидзогути страстно жаждет его смерти – здесь ярко проявляется убежденность писателя в красоте смерти и его любовь к ней. Страстно жаждет смерти Храма ибо почти очеловечивает его, поэтому здесь применимо слово «смерть». И когда он разочаровывается, и вместе с тем, как бы испытывает облегчение от того, что Храм остался невридим – он задумывает святотатство – сожжение Храма. К этому поступку он идет долго – через тысячи мелких грехов и святотатств. «Встретишь Будду – убей Будду, встретишь патриарха – убей патриарха, встретишь святого – убей святого, встретишь отца и мать – убей отца и мать, встретишь родича – убей и родича. Лишь так ты достигнешь просветления и избавления от бренности бытия» - строки из дзэн-буддистского трактата «Риндзайроку», звучавшие из уст Касиваги, который играет в романе роль дъявола, гордящегося своим уродством, превращенным в нечто гротескное влияют на героя перед самым сожжением, отчего он испытывает прилив сил. Есть в романе и роль ангела – но добро у Мисимы настолько бледно и невыразительно – является воплощением образцовости, что я едва могу припомнить его имя – сотоварища Мидзогути.
И когда Храм сожжен – душа его успакаивается и входит в гармонию со внешним миром. Хотя, конечно, как посмортеть, ибо конец романа неоднозначен: «Еще поживем…» говорит он хладнокровно. Цена свободы от гнета прекрасного – это уничтожение души, ибо она тесно связана с этим прекрасным. Так что по Мисиме зло имеет в этом мире больше силы, чем добро.
Как знать, может быть, он и прав?
Советую вам почитать этот роман и жду ваших комментариев к своему обзору. Будет приятно выслушать точку зрения, отличную от моей.
Эротические танка Рубоко Шо
quelle
26-12-2005 05:46
Мог ли японский бибилиофил и мультимиллионер Ки-но Кавабаки подумать, что случайно обнаруженный им во время прогулки по киотскому книжному развалу пергамент X века вызовет эффект разорававшейся бомбы в японской литературной среде? Вряд ли, однако - факт, сборник танка Рубоко Шо, изданный под названием "Ночи Комати, или Время Цикад", послужил причинами многочисленных исследований и перевернул сложившиеся устои.
Сам по себе жанр - эротическая танка - был практически неизвестен в японской литературе. Помимо этого, данные пятистишья насыщены заимствованиями и намеками на творения других авторов; подобное мог позволить себе только знаток обоих литератур - как китайской, так и японской.
Собственно о Рубоко Шо известно немногое. Известно, что он жил во второй половине X века, занимал высокую должность при дворе, но подверся опале и умер вдали от столицы на острове Цукуси (Кюсю). Едиственная рукопись - на листах пергамента, что свидетельствует об уважении к тексту, так как пергамент, более дорогой, чем бумага, использовался для записи важного, того, что боялись доверить менее прочному материалу. Есть также мнение, что именно Шо мог выступать под именем Мурасаки Сикибу - отмечается сходство стилистических приемов и орфографии.
Также известно, почему сборник из 99 танка назван именно "Ночи Комати".
Оно-но Комати (IX в), поэтесса и куртизанка, основательница классической традиции танка, еще при жизни стала легендой. Сэй Сёнагон в "Записках у изголовья" рассказывает историю о Комати. Она потребовала у принца Фу-Ка-Кёси за ночь с ней еще 99 ночей подряд. Принц не мог отказаться и умер, не дотянув одной ночи... Образ Комати настолько ярок и трагичен - придворная красавица в юности и нищенка в старости - что под его впечатлением написны множество призведений, самое известное из которых - пьеса Каннами Киёцугу "Гробница Комати" ("Сотоба Комати").
Рубоко Шо, живший на сотню лет позже ее смерти, был очарован ею и проникся некоей мистической страстью - случай, нередкий для Востока. Он ищет ее в изгибах любого женского тела, поцелуи, нежность и страсть - все только для нее...
99 танок - это 99 ночей Рубоко Шо с призраком Комати.
Мне не хочется препарировать его стихотворения, говорить о строе, символах, эмоциональной нагрузке - это убивает. Поэтому просто скачайте сие, почитайте и... а что "и" - это уже ваше дело.
комментарии: 9
понравилось!
вверх^
к полной версии
Мог ли японский бибилиофил и мультимиллионер Ки-но Кавабаки подумать, что случайно обнаруженный им во время прогулки по киотскому книжному развалу пергамент X века вызовет эффект разорававшейся бомбы в японской литературной среде? Вряд ли, однако - факт, сборник танка Рубоко Шо, изданный под названием "Ночи Комати, или Время Цикад", послужил причинами многочисленных исследований и перевернул сложившиеся устои.
Сам по себе жанр - эротическая танка - был практически неизвестен в японской литературе. Помимо этого, данные пятистишья насыщены заимствованиями и намеками на творения других авторов; подобное мог позволить себе только знаток обоих литератур - как китайской, так и японской.
Собственно о Рубоко Шо известно немногое. Известно, что он жил во второй половине X века, занимал высокую должность при дворе, но подверся опале и умер вдали от столицы на острове Цукуси (Кюсю). Едиственная рукопись - на листах пергамента, что свидетельствует об уважении к тексту, так как пергамент, более дорогой, чем бумага, использовался для записи важного, того, что боялись доверить менее прочному материалу. Есть также мнение, что именно Шо мог выступать под именем Мурасаки Сикибу - отмечается сходство стилистических приемов и орфографии.
Также известно, почему сборник из 99 танка назван именно "Ночи Комати".
Оно-но Комати (IX в), поэтесса и куртизанка, основательница классической традиции танка, еще при жизни стала легендой. Сэй Сёнагон в "Записках у изголовья" рассказывает историю о Комати. Она потребовала у принца Фу-Ка-Кёси за ночь с ней еще 99 ночей подряд. Принц не мог отказаться и умер, не дотянув одной ночи... Образ Комати настолько ярок и трагичен - придворная красавица в юности и нищенка в старости - что под его впечатлением написны множество призведений, самое известное из которых - пьеса Каннами Киёцугу "Гробница Комати" ("Сотоба Комати").
Рубоко Шо, живший на сотню лет позже ее смерти, был очарован ею и проникся некоей мистической страстью - случай, нередкий для Востока. Он ищет ее в изгибах любого женского тела, поцелуи, нежность и страсть - все только для нее...
99 танок - это 99 ночей Рубоко Шо с призраком Комати.
Мне не хочется препарировать его стихотворения, говорить о строе, символах, эмоциональной нагрузке - это убивает. Поэтому просто скачайте сие, почитайте и... а что "и" - это уже ваше дело.
Еще одна книга на заметку
Ульса
15-12-2005 16:54
 [150x215]
[150x215]
А. Н. Мещеряков
Японский император и русский царь. Элементная база
Рипол Классик, 2004 г.
Практически, это очень развернутая сравнтельная таблица японской и русской государственности и верховной власти периода их становления. Для Японии это 10-12 века, для России 16-17. Сравниваются семейные отношения, придворные церемонии, полномочия, атрибуты. Все это с отрывками из документов, моноготари и летописей. Кстати, есть среди источников сведений о японских императорах и упомянутые нами ниже романы придворных дам.
Книжка слишком узкоспециальная, чтобы я ее купила в домашнюю библиотеку, но вдруг кого-то это интересует больше.
комментарии: 2
понравилось!
вверх^
к полной версии
 [150x215]
[150x215]А. Н. Мещеряков
Японский император и русский царь. Элементная база
Рипол Классик, 2004 г.
Практически, это очень развернутая сравнтельная таблица японской и русской государственности и верховной власти периода их становления. Для Японии это 10-12 века, для России 16-17. Сравниваются семейные отношения, придворные церемонии, полномочия, атрибуты. Все это с отрывками из документов, моноготари и летописей. Кстати, есть среди источников сведений о японских императорах и упомянутые нами ниже романы придворных дам.
Книжка слишком узкоспециальная, чтобы я ее купила в домашнюю библиотеку, но вдруг кого-то это интересует больше.
еще один полезный сайт
Ульса
01-12-2005 12:43
страница петербургского издательства "Гиперион", в котором выходят книги классических и современных японских авторов, а также книги о Японии.
что есть на сайте:
каталог уже вышедших книг
описания новинок
описания книг, которые готовятся к выходу
подписка на рассылку новостей издательства
сайт для тех, кто хочет быть в курсе и оперативно пополнять свою "японскую полку".
http://hyperion.spb.ru/
 [250x188]
комментарии: 3
понравилось!
вверх^
к полной версии
[250x188]
комментарии: 3
понравилось!
вверх^
к полной версии
страница петербургского издательства "Гиперион", в котором выходят книги классических и современных японских авторов, а также книги о Японии.
что есть на сайте:
каталог уже вышедших книг
описания новинок
описания книг, которые готовятся к выходу
подписка на рассылку новостей издательства
сайт для тех, кто хочет быть в курсе и оперативно пополнять свою "японскую полку".
http://hyperion.spb.ru/
 [250x188]
[250x188]
Нидзе - Непрошеная повесть
Ульса
01-12-2005 12:36
 [200x296]
[200x296]
Последняя книжка хэйанской дамы с моей полки.
Непрошеная повесть с одной стороны, дневник, с другой – роман. С одной стороны, это стихи и придворная жизнь, с другой – очень личные переживания и события, происходящие с героиней-автором.
Как и положено истории о придворной даме, начинается повесть с призвания ко двору, кстати, в качестве фаворитки императора, и завершается удалением от двора. Отвлекаясь от эстетической (что-то уже утомляют это "изящество стиля и поэтичность" в описаниях каждой из снятых с полки книг) и исторической ценности книги, я бы сказала, что она о тяжелой женской доле в феодальном обществе. Начав карьеру при дворе с резкого взлета, Нидзе завершила ее вдали от света в монашеской келье – она не смогла стать матерью наследного принца, род ее оказался недостаточно влиятельным, а друзья недостаточно преданными. Но настоящая хэйанская дама не раскисает, даже если «мокры ее рукава от слез», так что в процессе чтения можно не только похлюпать носом над нелегкой судьбой Нидзе, но и подивиться силе ее духа.
Кстати, у самой книги судьба не легче – в ней, скорее всего, отсутствуют минимум 2 свитка, да и найдена повесть была только в 40-х годах 20 века (написана в 14) и долгое время не публиковалась и не переводилась.
Скачать можно отсюда
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
 [200x296]
[200x296]Последняя книжка хэйанской дамы с моей полки.
Непрошеная повесть с одной стороны, дневник, с другой – роман. С одной стороны, это стихи и придворная жизнь, с другой – очень личные переживания и события, происходящие с героиней-автором.
Как и положено истории о придворной даме, начинается повесть с призвания ко двору, кстати, в качестве фаворитки императора, и завершается удалением от двора. Отвлекаясь от эстетической (что-то уже утомляют это "изящество стиля и поэтичность" в описаниях каждой из снятых с полки книг) и исторической ценности книги, я бы сказала, что она о тяжелой женской доле в феодальном обществе. Начав карьеру при дворе с резкого взлета, Нидзе завершила ее вдали от света в монашеской келье – она не смогла стать матерью наследного принца, род ее оказался недостаточно влиятельным, а друзья недостаточно преданными. Но настоящая хэйанская дама не раскисает, даже если «мокры ее рукава от слез», так что в процессе чтения можно не только похлюпать носом над нелегкой судьбой Нидзе, но и подивиться силе ее духа.
Кстати, у самой книги судьба не легче – в ней, скорее всего, отсутствуют минимум 2 свитка, да и найдена повесть была только в 40-х годах 20 века (написана в 14) и долгое время не публиковалась и не переводилась.
Скачать можно отсюда
еще одна небольшая библиотечка
Ульса
29-11-2005 22:01
расположилась в разделе "литература" на сайте http://www.furuikeya.newmail.ru/akai.htm
небольшая, но со вкусом составленная подборка книг японских авторов в электронном виде.
сам сайт - еще одно собрание кратких обзоров японской культры с невнятной периодизацией, зато с отличными статьями о японском театре. если вы ничего не читали о традиционном японском театре но, кабуки и пр. - это хорошее место, чтобы начать свое знакомство с этим удивительным явлением
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
расположилась в разделе "литература" на сайте http://www.furuikeya.newmail.ru/akai.htm
небольшая, но со вкусом составленная подборка книг японских авторов в электронном виде.
сам сайт - еще одно собрание кратких обзоров японской культры с невнятной периодизацией, зато с отличными статьями о японском театре. если вы ничего не читали о традиционном японском театре но, кабуки и пр. - это хорошее место, чтобы начать свое знакомство с этим удивительным явлением
Япония сегодня
Ульса
23-11-2005 16:11
Во-первых, это журнал о современной Японии, ее истории и культуре, который издается при поддержке Японии.
во-вторых, свежие новости о российско-японских отношениях, политике и экономике и культуре страны
в-третьих, адреса и телефоны всех "японских организаций" (клубы и центры японской культуры, научные центры и пр.
в-четвертых, энциклопедия японской истории и культуры
в-пятых, специальные проекты для японоведов и интересующихся
в-шестых, кулинарные советы
в-седьмых, библиотека с электронными текстами японских писателей
в-восьмых, интернет-магазин, где можно заказать книги о японии и номера журнала
в целом - большой и полезный портал. главное достоинство, на мой взгляд, в том, что вся информация проверена и достоверна.
http://www.japantoday.ru
 [300x225]
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[300x225]
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Во-первых, это журнал о современной Японии, ее истории и культуре, который издается при поддержке Японии.
во-вторых, свежие новости о российско-японских отношениях, политике и экономике и культуре страны
в-третьих, адреса и телефоны всех "японских организаций" (клубы и центры японской культуры, научные центры и пр.
в-четвертых, энциклопедия японской истории и культуры
в-пятых, специальные проекты для японоведов и интересующихся
в-шестых, кулинарные советы
в-седьмых, библиотека с электронными текстами японских писателей
в-восьмых, интернет-магазин, где можно заказать книги о японии и номера журнала
в целом - большой и полезный портал. главное достоинство, на мой взгляд, в том, что вся информация проверена и достоверна.
http://www.japantoday.ru
 [300x225]
[300x225]
Борис Агапов «Воспоминания о Японии. 1945-1946 годы»
Сканни
22-11-2005 21:30
Документальная повесть. Как и обещала, пишу о книге не-японского писателя, но книге о Японии. Каким-то боком.
Знаете, я не люблю советских писателей, рассказывающих о зарубежье, о зарубежных деятелях искусства, культуры, науки, писателях, да пусть даже президентах! И точно так же не люблю тех из них, кто рассказывает об СССР, о своих писателях, кто дает рецензии на книги.
Потому что все это делается через ужасную искаженную призму, которая вдруг куда-то испарилась за прошедшие 10 лет, да, именно 10, ибо первые годы было просто по привычке, по инерции продолжено было писать «советским стилем».
Да, собственно перейдем к предмету разговора. То это относят к очеркам, то все-таки сливают в повесть, но, как бы там ни было – во-первых – о Японии там написано очень мало. Львиная доля впечатлений отдана «америкашкам», оккупировавшим тогда Японию, коллегам-писателям – Горбатову и Симонову. Дороге. Тайге. Впечатлениям от книг. И везде это отвратительное желание выискать «происки буржуазии», что бесило меня и портило впечатление от книги. «Я не знаю, что было правдой и что неправдой в свидетельствах, какие мы получали и какие нам переводили наши переводчики в Японии» - пишет Агапов. О, да! Попасть в оккупированную страну, занятую злейшими на тот момент врагами СССР – США, и пытаться понять культуру японцев, их дух – униженный, оскорбленный, но не сломленный (вспомните героя Мисима, топтавшего по приказу офицера американской армии японскую проститутку в романе «Золотой храм») – это невозможно. Так Агапов ни черта о Японии и не понял. Не понял эту великую страну, древние традиции, культуру, людей. Ни капельки. Да, пытался понять. Честно пытался, со всей своей советской идеологией, приверженностью идеям равенства и братства, своим коммунистическим складом ума. И не смог. Надо было отбросить все это – а он не мог. Так жил.
И объявлял все явления культуры японской – чушью. Нереальностью. Жестокостью даже порой.
Хэйан – да, хороша была эпоха – в Киото рождалась классическая литература Японии (тут он упоминает Сэй Сёнагон), ах хороши были дамы, имеющие влияние, но! – спотыкается он – они же эксплуатировали рабочий класс!
Феодализм, ступивший вслед за Хэйаном на землю японскую, на японский престол – вульгарность и варварство! Бычьи портреты генералов – как выражается Агапов. К ним он вообще относится не объективно и не научно – «Кровавые псы! Тупые мерзавцы!». Кто бы знал, что пятьдесят лет спустя так будут говорить об элите советского общества – о власти, о Сталине… это он читает Инадзо Нитобэ – и поражается его приверженности кодексу самурая. Говорит: «человек респектабельный… она (книга) оставила во мне черное ощущение… мне не хотелось бы обращаться к книге… Нитобэ».
Период нищеты Японии, период ликвидации армии, Хиросима, Уэно, Отряд Обороны Против Голодной Смерти. Слезы и стенанья повсюду, слезы вызванные американцами. При всем при этом непонятно, кого Агапов недолюбливает больше – Японию за ее агрессию, направленную на СССР и сторону Германии, принятую во второй мировой, или США за их оккупацию территорий Японии, военные базы и наглость военных. И, разумеется, самоотверженные японские коммунисты – в душе и без нее – жаждущие рассказов о Ленине и революции.
Тории. Ворота без створок и забора. Буддистские храмы. Часовни. Все это Агапову тоже непонятно – богов он считает злыми и бесчеловечными. Исключение делает в этом плане лишь для скульптур Энку, называя их наиболее приближенными к «народу» - короче, к крестьянам.
Агапов заинтересовался и философией дзэн – разумеется, нельзя было обойти вниманием такое явление в культуре Японии. И, не поняв великих коанов Нансэна заключает: «…не как приобщение к космическому сознанию, а как личное спасение от мирской докуки», раз и навсегда вычеркивая полезность дзэна для людей. Не понимает и чайной церемонии – не чувствует отдохновения от забот, и сравнивает тяно-ю с игрой в шахматы. Не принимает пилюль, выданных ему врачом тибетской медицины – «мало ли чего они там намешали!» - древнейшая медицина в мире (и, скажу честно, лучшая!) падает жертвой недоверия советских медиков, которые, по-видимому, даже не смогли разгадать состав пилюль.
Кое-что он все-таки понимает – и в японской живописи, и в искусстве стихосложения, но… недостаточно этого, чтобы понять Японию. Особую страну. Особую культуру. Тонкую и неповторимую. И, в результате заключает писатель: «…эта особость сразу становится опасным для соседей мифом…начинается провозглашение всякого вздора, вроде того, что, мол, именно этот народ «избран», а следовательно, имеет какие-то права сверх тех, которыми обладают другие». Да, обжегшись на молоке…
Но это только лишний раз подтверждает то, что ничегошеньки Агапов в Японии не понял.
ЗЫ. Прошу прощения за то, что, возможно была излишне резка в своем мнении, я ведь могу обидеть потомков этого, несомненно, достойного писателя, но эта вещь ему совсем не удалась.
Но прочесть это стоит. Хотя бы для того, чтобы знать как это: пишешь книгу об одном, а в результатеЧитать далее...
комментарии: 2
понравилось!
вверх^
к полной версии
Документальная повесть. Как и обещала, пишу о книге не-японского писателя, но книге о Японии. Каким-то боком.
Знаете, я не люблю советских писателей, рассказывающих о зарубежье, о зарубежных деятелях искусства, культуры, науки, писателях, да пусть даже президентах! И точно так же не люблю тех из них, кто рассказывает об СССР, о своих писателях, кто дает рецензии на книги.
Потому что все это делается через ужасную искаженную призму, которая вдруг куда-то испарилась за прошедшие 10 лет, да, именно 10, ибо первые годы было просто по привычке, по инерции продолжено было писать «советским стилем».
Да, собственно перейдем к предмету разговора. То это относят к очеркам, то все-таки сливают в повесть, но, как бы там ни было – во-первых – о Японии там написано очень мало. Львиная доля впечатлений отдана «америкашкам», оккупировавшим тогда Японию, коллегам-писателям – Горбатову и Симонову. Дороге. Тайге. Впечатлениям от книг. И везде это отвратительное желание выискать «происки буржуазии», что бесило меня и портило впечатление от книги. «Я не знаю, что было правдой и что неправдой в свидетельствах, какие мы получали и какие нам переводили наши переводчики в Японии» - пишет Агапов. О, да! Попасть в оккупированную страну, занятую злейшими на тот момент врагами СССР – США, и пытаться понять культуру японцев, их дух – униженный, оскорбленный, но не сломленный (вспомните героя Мисима, топтавшего по приказу офицера американской армии японскую проститутку в романе «Золотой храм») – это невозможно. Так Агапов ни черта о Японии и не понял. Не понял эту великую страну, древние традиции, культуру, людей. Ни капельки. Да, пытался понять. Честно пытался, со всей своей советской идеологией, приверженностью идеям равенства и братства, своим коммунистическим складом ума. И не смог. Надо было отбросить все это – а он не мог. Так жил.
И объявлял все явления культуры японской – чушью. Нереальностью. Жестокостью даже порой.
Хэйан – да, хороша была эпоха – в Киото рождалась классическая литература Японии (тут он упоминает Сэй Сёнагон), ах хороши были дамы, имеющие влияние, но! – спотыкается он – они же эксплуатировали рабочий класс!
Феодализм, ступивший вслед за Хэйаном на землю японскую, на японский престол – вульгарность и варварство! Бычьи портреты генералов – как выражается Агапов. К ним он вообще относится не объективно и не научно – «Кровавые псы! Тупые мерзавцы!». Кто бы знал, что пятьдесят лет спустя так будут говорить об элите советского общества – о власти, о Сталине… это он читает Инадзо Нитобэ – и поражается его приверженности кодексу самурая. Говорит: «человек респектабельный… она (книга) оставила во мне черное ощущение… мне не хотелось бы обращаться к книге… Нитобэ».
Период нищеты Японии, период ликвидации армии, Хиросима, Уэно, Отряд Обороны Против Голодной Смерти. Слезы и стенанья повсюду, слезы вызванные американцами. При всем при этом непонятно, кого Агапов недолюбливает больше – Японию за ее агрессию, направленную на СССР и сторону Германии, принятую во второй мировой, или США за их оккупацию территорий Японии, военные базы и наглость военных. И, разумеется, самоотверженные японские коммунисты – в душе и без нее – жаждущие рассказов о Ленине и революции.
Тории. Ворота без створок и забора. Буддистские храмы. Часовни. Все это Агапову тоже непонятно – богов он считает злыми и бесчеловечными. Исключение делает в этом плане лишь для скульптур Энку, называя их наиболее приближенными к «народу» - короче, к крестьянам.
Агапов заинтересовался и философией дзэн – разумеется, нельзя было обойти вниманием такое явление в культуре Японии. И, не поняв великих коанов Нансэна заключает: «…не как приобщение к космическому сознанию, а как личное спасение от мирской докуки», раз и навсегда вычеркивая полезность дзэна для людей. Не понимает и чайной церемонии – не чувствует отдохновения от забот, и сравнивает тяно-ю с игрой в шахматы. Не принимает пилюль, выданных ему врачом тибетской медицины – «мало ли чего они там намешали!» - древнейшая медицина в мире (и, скажу честно, лучшая!) падает жертвой недоверия советских медиков, которые, по-видимому, даже не смогли разгадать состав пилюль.
Кое-что он все-таки понимает – и в японской живописи, и в искусстве стихосложения, но… недостаточно этого, чтобы понять Японию. Особую страну. Особую культуру. Тонкую и неповторимую. И, в результате заключает писатель: «…эта особость сразу становится опасным для соседей мифом…начинается провозглашение всякого вздора, вроде того, что, мол, именно этот народ «избран», а следовательно, имеет какие-то права сверх тех, которыми обладают другие». Да, обжегшись на молоке…
Но это только лишний раз подтверждает то, что ничегошеньки Агапов в Японии не понял.
ЗЫ. Прошу прощения за то, что, возможно была излишне резка в своем мнении, я ведь могу обидеть потомков этого, несомненно, достойного писателя, но эта вещь ему совсем не удалась.
Но прочесть это стоит. Хотя бы для того, чтобы знать как это: пишешь книгу об одном, а в результате
Сэй Сёнагон и ее «Записки у изголовья»
Сканни
22-11-2005 19:25
 [207x297]
[207x297]
Десять веков назад в Хэйане (теперешний Киото) придворная фрейлина Сэй Сёнагон получила в подарок кипу хорошей бумаги и начала вести свои записки. Названы они были «Макура-но соси», что означает «Записки у изголовья».
…и вот я стала записывать просто так, шутки ради, все, что придет на ум…
Честно говоря, хотя их и относят к жанру дневниковых записей, они мало что имеют с летописью или дневником, ибо хронологический порядок не соблюден, а события описываются не с предельной точностью, а, скорее, в виде зарисовок, впечатлений, анекдотов, сцен из жизни двора и картин природы, и все это перемежается тончайшими и, порою остроумными стихами. Конечно, в переводе на русский язык японские танки и хайку теряют свою прелесть, ведь нельзя вписать иероглиф в иероглиф и тем самым передать точный смысл стихотворения.
Несмотря на отрывочность записок – это богатейший источник информации об эпохе Хэйан. Сэй Сёнагон с юмором изображает комедию двора, куртуазной любви, тайн и интриг, нарушая общепринятые каноны изящного жизнеописания. Пишет о том, как чиновники стараются получить местечко получше при дворе (тогдашняя система правления была позаимствована из Китая, что оказалось тяжеловато для начинавшей свое становление по новой Японии). Пишет о фрейлинах, которые ей не совсем доверяли, считая выскочкой, и при случае старались унизить или оскорбить. Об императрице, которую искренне обожает, за что и достается ей от завистливых дам при дворе, хотя чувство не безответно – императрица испытывает симпатию к умной, талантливой женщине с тонким чувством юмора. Читать далее
читать онлайн
комментарии: 7
понравилось!
вверх^
к полной версии
 [207x297]
[207x297]Десять веков назад в Хэйане (теперешний Киото) придворная фрейлина Сэй Сёнагон получила в подарок кипу хорошей бумаги и начала вести свои записки. Названы они были «Макура-но соси», что означает «Записки у изголовья».
…и вот я стала записывать просто так, шутки ради, все, что придет на ум…
Честно говоря, хотя их и относят к жанру дневниковых записей, они мало что имеют с летописью или дневником, ибо хронологический порядок не соблюден, а события описываются не с предельной точностью, а, скорее, в виде зарисовок, впечатлений, анекдотов, сцен из жизни двора и картин природы, и все это перемежается тончайшими и, порою остроумными стихами. Конечно, в переводе на русский язык японские танки и хайку теряют свою прелесть, ведь нельзя вписать иероглиф в иероглиф и тем самым передать точный смысл стихотворения.
Несмотря на отрывочность записок – это богатейший источник информации об эпохе Хэйан. Сэй Сёнагон с юмором изображает комедию двора, куртуазной любви, тайн и интриг, нарушая общепринятые каноны изящного жизнеописания. Пишет о том, как чиновники стараются получить местечко получше при дворе (тогдашняя система правления была позаимствована из Китая, что оказалось тяжеловато для начинавшей свое становление по новой Японии). Пишет о фрейлинах, которые ей не совсем доверяли, считая выскочкой, и при случае старались унизить или оскорбить. Об императрице, которую искренне обожает, за что и достается ей от завистливых дам при дворе, хотя чувство не безответно – императрица испытывает симпатию к умной, талантливой женщине с тонким чувством юмора. Читать далее
читать онлайн
Мурасаки Сикибу - дневник
Ульса
22-11-2005 17:08
 [150x243]
[150x243]
Мурасаки Сикибу - Дневник
Немного рассказать о явлении «дневник придворной дамы» в японской литературе собиралась
Сканни. Тем более, что лично читала по этому вопросу только короткое примечание Мещерякова в антологии. Там он указывает, что появление этих дневников было связано с появлением собственно японской азбуки (до этого писали только китайскими иероглифами и литература была в основном подражанием китайским авторам), кроме того, подчеркивает, что были эти дневники изначально публичными, предполагалось, что их могут и будут читать вслух. На том пока и остановимся.
Одним из двух дневников, с которыми, непременно, на мой взгляд, нужно ознакомиться, это два одновременно похожих и разных дневника, один из которых принадлежит кисти Сей Сёнагон, а второй Мурасаки Сикбу.
Мурасаки Сикибу – не настоящее имя дамы, и годы ее жизни указывают приблизительно (конец 10 – начало 11 века), скорее всего она происходила из рода Фудзивара, зато достоверно известно, что именно она является автором великого романа того времени - «Гэндзи Монаготари», к которому, мы еще вернемся.
Естественно, в дневнике придворной дамы много места уделяется жизни во дворце, но помимо сведений этнографических, есть у дневника и другие достоинства. Даже описания официальных событий читаются не как инвентаризация дворцовых шкафов. Если позволительно использовать такое сравнение, автор как будто проводит нас по дворцовым помещениям, но показывает не столько парадные места, достойные путеводителей, сколько интересные или дорогие ей самой. Этот не просто диковинка, экзотическое чтение, а дневник интересной писательницы.
Отрывок:
читать онлайн
комментарии: 8
понравилось!
вверх^
к полной версии
 [150x243]
[150x243]Мурасаки Сикибу - Дневник
Немного рассказать о явлении «дневник придворной дамы» в японской литературе собиралась
Одним из двух дневников, с которыми, непременно, на мой взгляд, нужно ознакомиться, это два одновременно похожих и разных дневника, один из которых принадлежит кисти Сей Сёнагон, а второй Мурасаки Сикбу.
Мурасаки Сикибу – не настоящее имя дамы, и годы ее жизни указывают приблизительно (конец 10 – начало 11 века), скорее всего она происходила из рода Фудзивара, зато достоверно известно, что именно она является автором великого романа того времени - «Гэндзи Монаготари», к которому, мы еще вернемся.
Естественно, в дневнике придворной дамы много места уделяется жизни во дворце, но помимо сведений этнографических, есть у дневника и другие достоинства. Даже описания официальных событий читаются не как инвентаризация дворцовых шкафов. Если позволительно использовать такое сравнение, автор как будто проводит нас по дворцовым помещениям, но показывает не столько парадные места, достойные путеводителей, сколько интересные или дорогие ей самой. Этот не просто диковинка, экзотическое чтение, а дневник интересной писательницы.
Отрывок:
читать онлайн
Торикаэбая моногатари, или Путаница
Ульса
17-11-2005 15:46
 [150x235]
[150x235]
Торикаэбая моногатари, или Путаница
Серия: Японская классическая библиотека. XXI
Издательство: Гиперион, 2003 г.
Моноготари часто переводят на русский как «повесть» или «сказание», хотя гораздо ближе этот жанр к роману. Моноготари по сути есть романы о семейных и любовных перипетиях придворных, написанные придворными же дамами эпохи хэйан. Жанр моногатари был тогда наиболее художественным, в нем допускалась максимальная вольность обращения с сюжетом. Любопытно, что, не смотря на вымышленность персонажей и обстоятельств их жизни, описания придворных званий и дворцовых ритуалов в таких романах очень подробны и точны.
Так что можно считать, что для современного читателя большинство моногатари состоят из двух частей – из описания придворной жизни и из «дамского романа». Кстати, существует мнение, что именно моногатари мы обязаны заполняющим сегодня аниме женственным красавцам. В самом деле, нигде в любовных историях, над которыми вздыхали хэйанские дамы, не встретим мы восхищения мускулистыми руками, широкими плечами и прочими атрибутами современного дамского романа – сплошные изящество, стройность и шелковистость.
Перейдем же к «Путанице». Путаница заключается в том, что брат и сестра благородного рода с детства обладали качествами и склонностями, присущими скорее другому полу. Родители, посмотрев на робкого изящного брата, предпочитавшего уроки музыки верховой езде, и бойкую девочку, ловко обращаювшуюся с луком, повздыхали да и стали воспитывать брата как сестру, а сестру как брата. Это вызвало в дальнейшем множество неловких и драматических ситуаций в придворной и любовной жизни молодых людей.
Читается роман легко и с удовольствием, все-таки семейно-любовная линия в нем главная, читателя даже не перегружают примечаниями - полезные сведения о литературе и обществе того периода, а также о самой моногатари издателем помещены в предисловие. Самое большое удовольствие, разумеется, в том, что следим мы за этой линией глазами утонченной дамы-автора, располагавшей досугом, чтобы видеть прекрасное, возвышенное и печальное там, где современному городскому жителю и остановиться некогда.
в файле
комментарии: 8
понравилось!
вверх^
к полной версии
 [150x235]
[150x235]Торикаэбая моногатари, или Путаница
Серия: Японская классическая библиотека. XXI
Издательство: Гиперион, 2003 г.
Моноготари часто переводят на русский как «повесть» или «сказание», хотя гораздо ближе этот жанр к роману. Моноготари по сути есть романы о семейных и любовных перипетиях придворных, написанные придворными же дамами эпохи хэйан. Жанр моногатари был тогда наиболее художественным, в нем допускалась максимальная вольность обращения с сюжетом. Любопытно, что, не смотря на вымышленность персонажей и обстоятельств их жизни, описания придворных званий и дворцовых ритуалов в таких романах очень подробны и точны.
Так что можно считать, что для современного читателя большинство моногатари состоят из двух частей – из описания придворной жизни и из «дамского романа». Кстати, существует мнение, что именно моногатари мы обязаны заполняющим сегодня аниме женственным красавцам. В самом деле, нигде в любовных историях, над которыми вздыхали хэйанские дамы, не встретим мы восхищения мускулистыми руками, широкими плечами и прочими атрибутами современного дамского романа – сплошные изящество, стройность и шелковистость.
Перейдем же к «Путанице». Путаница заключается в том, что брат и сестра благородного рода с детства обладали качествами и склонностями, присущими скорее другому полу. Родители, посмотрев на робкого изящного брата, предпочитавшего уроки музыки верховой езде, и бойкую девочку, ловко обращаювшуюся с луком, повздыхали да и стали воспитывать брата как сестру, а сестру как брата. Это вызвало в дальнейшем множество неловких и драматических ситуаций в придворной и любовной жизни молодых людей.
Читается роман легко и с удовольствием, все-таки семейно-любовная линия в нем главная, читателя даже не перегружают примечаниями - полезные сведения о литературе и обществе того периода, а также о самой моногатари издателем помещены в предисловие. Самое большое удовольствие, разумеется, в том, что следим мы за этой линией глазами утонченной дамы-автора, располагавшей досугом, чтобы видеть прекрасное, возвышенное и печальное там, где современному городскому жителю и остановиться некогда.
в файле
Смоленский В. - Записки гайдзина
Ульса
11-11-2005 23:31

А вот и новая «ветка сакуры» - книга Вадима Смоленского «записки гайдзина».
Японские гаишники, модные девушки, соотечественники-ученые и соотечественницы-хостесс, истории про баню с якудзой и про выуживание очков коллеги из канализации, да мало ли с кем и чем еще может столкнуть судьба нашего человека, занесенного в северную Японию.
По сути, книга, как и «ветка сакуры», является сборником очерков. Читать их совсем не скучно, потому что кроме фактов современной японской жизни, есть там и очень живо описанные люди, и меткие наблюдения, и вполне серьезные размышления – тексты на любой вкус и настроение.
.
Электронной версией разжиться намного проще – она выложена на сайте автора www.susi.ru а вот купить ее, кажется, можно только через интернет.
upd 2008 в новой обложке продается и в книжных, именно такую я себе и купила.
комментарии: 4
понравилось!
вверх^
к полной версии

А вот и новая «ветка сакуры» - книга Вадима Смоленского «записки гайдзина».
Японские гаишники, модные девушки, соотечественники-ученые и соотечественницы-хостесс, истории про баню с якудзой и про выуживание очков коллеги из канализации, да мало ли с кем и чем еще может столкнуть судьба нашего человека, занесенного в северную Японию.
По сути, книга, как и «ветка сакуры», является сборником очерков. Читать их совсем не скучно, потому что кроме фактов современной японской жизни, есть там и очень живо описанные люди, и меткие наблюдения, и вполне серьезные размышления – тексты на любой вкус и настроение.
.
Электронной версией разжиться намного проще – она выложена на сайте автора www.susi.ru а вот купить ее, кажется, можно только через интернет.
upd 2008 в новой обложке продается и в книжных, именно такую я себе и купила.
Овчинников В. - Ветви сакуры
Ульса
11-11-2005 23:28
 [показать]
[показать]
Для многих – это самая первая книга о Японии – «Ветви сакуры» Всеволда Овчинникова. Традиционно издается с книгой об английских нравах «Корни дуба» - так и написано на обложке «Ветви сакуры и корни дуба».
Даже тем, кто уже читал эту книгу когда-то, рекомендую новое издание - из него автор перед публикацией вычистил все то, что было необходимо написать советскому журналисту про капиталистическую страну. Кстати, сюжет о бастующих рабочих или главы о посещении различных производств из книги не исчезли, а вот обязательный идеологический пафос вычищен.
Рассказы о воспитание, образовании, метро и других мелочах японской жизни в «Ветвях сакуры» прекрасно сочетаются с понятными объяснениями принципов национальной эстетики, например. Увлечение автора страной восходящего солнца быстро передается читателю, думаю, не смотря на то, что многие сведения устарели, это все еще лучшая первая книга о Японии.
Электронная версия есть на www.lib.ru к сожалению, неизвестно, редакция какого года у них выложена.
upd 2008 сейчас продают уже только с такой обложкой
комментарии: 3
понравилось!
вверх^
к полной версии
 [показать]
[показать]Для многих – это самая первая книга о Японии – «Ветви сакуры» Всеволда Овчинникова. Традиционно издается с книгой об английских нравах «Корни дуба» - так и написано на обложке «Ветви сакуры и корни дуба».
Даже тем, кто уже читал эту книгу когда-то, рекомендую новое издание - из него автор перед публикацией вычистил все то, что было необходимо написать советскому журналисту про капиталистическую страну. Кстати, сюжет о бастующих рабочих или главы о посещении различных производств из книги не исчезли, а вот обязательный идеологический пафос вычищен.
Рассказы о воспитание, образовании, метро и других мелочах японской жизни в «Ветвях сакуры» прекрасно сочетаются с понятными объяснениями принципов национальной эстетики, например. Увлечение автора страной восходящего солнца быстро передается читателю, думаю, не смотря на то, что многие сведения устарели, это все еще лучшая первая книга о Японии.
Электронная версия есть на www.lib.ru к сожалению, неизвестно, редакция какого года у них выложена.
upd 2008 сейчас продают уже только с такой обложкой
о будущем дневника
Японские_чтения
11-11-2005 14:59
когда-то в дневнике Otaku_sanctuary я уже спрашивала, интересны ли будут кому-нибудь записи о книгах, 12 человек ответили, что им это было бы интересно. возможно, у кого-то из них тоже есть своя книжная полка и желание поделиться информацией с читающими?
Otaku_sanctuary я уже спрашивала, интересны ли будут кому-нибудь записи о книгах, 12 человек ответили, что им это было бы интересно. возможно, у кого-то из них тоже есть своя книжная полка и желание поделиться информацией с читающими?
тот самый опрос
другой вопрос:
upd. все-таки, будет он сообществом с членством по приглашению. принцип допуска - такой же, как к моей реальной книжной полке - совпадение вкусов в выборе книг и взаимная симпатия, чтобы были у нас тут чтения, а не толкотня бестолковая, как в больших книжных сообществах всегда учиняют.
так что желающих присоединиться просим-просим в комменты, там обо всем и поговорим.
комментарии: 22
понравилось!
вверх^
к полной версии
когда-то в дневнике
тот самый опрос
другой вопрос:
каким быть дневнику
upd. все-таки, будет он сообществом с членством по приглашению. принцип допуска - такой же, как к моей реальной книжной полке - совпадение вкусов в выборе книг и взаимная симпатия, чтобы были у нас тут чтения, а не толкотня бестолковая, как в больших книжных сообществах всегда учиняют.
так что желающих присоединиться просим-просим в комменты, там обо всем и поговорим.