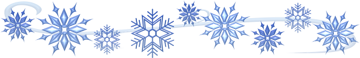Это цитата сообщения дубыня Оригинальное сообщение
Идея украинства, сформировавшаяся в XIX–XX веках и достигшая своего институционального апогея после распада СССР, представляет собой типичный пример европейской модернистской нациестроительной доктрины.
Её суть — в создании и удержании искусственной политической нации под названием «украинцы» в рамках государства-нации «Украина», выстроенного по западноевропейскому образцу.
Tartaric Acid - это название одной из кислот, используемых для обработки (читай: подготовки/расплавления) полигональных/циклопических слоёв горных пород в таких местах, как Пума-Пунку и т.д.
Забавное совпадение. Или не совпадение, кто их там знает, этих тартар.

Очень далеко не все знают,что Великая Тартария в самом первом издании Британской энциклопедии была показана картой занимающей всю северную Америку и Азию.
Факт.
-----
Использование винной кислоты
Применяется для улучшения вкуса пероральных препаратов
Он используется для хелатирования ионов металлов, таких как магний и кальций
Используется в рецептах в качестве разрыхлителя наряду с пищевой содой
Используется как антиоксидант
Это одна из важных кислот в вине
Его используют в пищевых продуктах для придания кислого вкуса
Иногда его используют для того, чтобы вызвать рвоту
Его используют для изготовления серебряных зеркал
В виде эфира используется при крашении текстильных изделий
Используется при дублении кожи
Его используют в конфетах
В кремообразной форме используется в качестве стабилизатора в пищевых продуктах
Является ли винная кислота сильной кислотой?
Это более сильная кислота, чем яблочная и лимонная кислота, и менее подвержена распаду микроорганизмами во время спиртовой и яблочно-молочной ферментации. При реакции винной кислоты с сульфатом калия получается калиевая соль винной кислоты, имеющая меньшую растворимость в воде.
Для чего используется винная кислота?
Винная кислота — важная пищевая добавка, которую в рецептах обычно смешивают с пищевой содой в качестве разрыхлителя. Его можно использовать во всех типах пищевых продуктов, за исключением необработанных. Винная кислота естественным образом содержится в таких растениях, как виноград, абрикосы, апельсины, бананы, авокадо и тамаринды.
Тюремный священник спускается в «смертный барак» колонии строгого режима. Там, в камере, пропитанной хлоркой и безнадёгой, его ждёт человек, от которого шарахались даже конвоиры. Но сегодня этот страшный старик попросил...
Лязг засова отдался в позвоночнике.
Отец Александр переступил порог и замер, давая глазам привыкнуть к сумраку. В нос ударило — сладковатая гниль, хлорка, застоявшаяся человеческая беда. Он задержал дыхание, потом заставил себя вдохнуть. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
Камера была узкой, как гроб. Серые стены в потёках, под потолком — зарешеченное оконце, сквозь которое сочился мутный январский свет. На железной койке, под байковым одеялом, угадывались очертания тела — слишком плоские, слишком неподвижные.
— Пришёл, значит, — раздался голос. Сиплый, как ржавая петля. — Ну, заходи. Я не кусаюсь. Уже не кусаюсь.
Священник сделал шаг. Ещё один. Подошвы прилипали к бетонному полу.
Он сжал в руках ручку старого требного чемоданчика — потёртая кожа, латунные застёжки. Там лежали епитрахиль, требник да святая вода. Но главное сокровище было не там.
Отец Александр чувствовал, как под плотной тканью рясы, на груди, у самого сердца, покоится Дароносица, подвешенная на шелковом шнуре.
Металлический ковчежец чуть касался тела при ходьбе, напоминая: он здесь не один. С ним — Сам Христос.
Человек на койке повернул голову. Отец Александр увидел лицо — и что-то дрогнуло в груди, какая-то давно забытая, детская жуть.
Это было лицо мертвеца, который ещё дышал. Кожа обтягивала череп так туго, что казалось — вот-вот лопнет на скулах. Запавшие глаза смотрели из чёрных провалов глазниц.
На шее, на руках, выброшенных поверх одеяла, синели наколки — купола, кресты, оскаленные волчьи морды, какие-то перстни, звёзды. Вся эта тюремная летопись расползлась по высохшему телу, как плесень по старой стене.
— Чё, страшно? — Губы раздвинулись в усмешке, обнажив чёрные обломки зубов. — Меня тут все боялись. Даже вертухаи обходили. А теперь вон... Сам себя боюсь. В зеркало смотреть не могу.
Дыхание. Священник слышал его дыхание — тяжёлое, влажное, с присвистом, будто внутри этой грудной клетки что-то хлюпало и булькало. Каждый вдох давался с трудом, каждый выдох звучал как последний.
— Я пришёл, — сказал отец Александр. Голос вышел ровным, и он сам удивился этому. — Ты звал.
— Звал. — Глаза умирающего блеснули. — Тридцать лет не звал, а тут позвал. Смешно, да?
Священник не ответил. Он искал глазами, куда поставить чемоданчик, и не находил — ни стола, ни тумбочки, только параша в углу да ржавая раковина. Наконец опустился на корточки, положил ношу на колени у изголовья койки.
— Табуретку принести? — раздалось из-за двери. Конвоир. Отец Александр кивнул, не оборачиваясь.
Пока ждали, молчали. Умирающий смотрел в потолок, священник — на его руки. Пальцы — узловатые, скрюченные, в каких-то шрамах и рубцах. Этими руками... Не думать. Не судить. Ты не за этим пришёл.
Табуретка оказалась колченогой, отец Александр сел осторожно, чувствуя, как она шатается под ним. Дверь лязгнула, закрываясь. Они остались вдвоём.
— Лютым меня кликали, — сказал умирающий, не отрывая взгляда от потолка. — Слыхал, может?
Слыхал. Начальник колонии предупреждал: «Этот — зверь. Четыре ходки. Мокрые дела. Авторитет из старых, блатных. Только он сейчас никакой, ждёт своего часа. Вы уверены, что хотите к нему?»
— Слыхал, — ответил отец Александр.
— И пришёл?
— Пришёл.
Лютый медленно повернул голову. Взгляд его был мутным, плавающим, но в глубине что-то теплилось — не злоба, не насмешка. Что-то живое и испуганное.
— Исповедоваться хочу, — сказал он хрипло. — Только... — Он закашлялся, долго, надсадно, выворачивая себя наизнанку. Священник подался вперёд, хотел помочь — но чем тут поможешь? Ждал, пока кашель уляжется.
— Только я не умею, — выдохнул наконец Лютый. — Не знаю, как это... Я ж некрещёный даже был. Тут покрестили. Три месяца назад. Когда уже совсем... — Он не договорил.
— Ничего, — сказал отец Александр. — Просто говори. Как умеешь. Господь поймёт.
Он достал из-под рясы епитрахиль, расправил. Ткань была старая, вышивка кое-где стёрлась, но кресты ещё виднелись — золото на тёмно-лиловом. Привычным движением накинул на шею.
Лютый смотрел, не отрываясь. В глазах его плескалось что-то странное — может, страх, а может, надежда. Трудно разобрать.
— Начинай, — тихо сказал священник.
И он начал.
Сначала — медленно, запинаясь, путаясь в словах. Потом — быстрее, торопливее, будто боялся не успеть. Голос срывался на хрип, слова лезли друг на друга, и отец Александр слушал, чувствуя, как внутри что-то сжимается, скручивается в комок.
Это была не исповедь. Это было извержение. Гной, копившийся десятилетиями, рвался наружу — чёрный, зловонный, страшный.
У легендарной Маши Слоним, она же леди Филлимор, в издательстве VIDIM BOOKS выходит новая книга «Возвращения. Несерьезный мемуар». Насмешливая легкость пера, захватывающий драматизм рассказанных историй в сочетании с неотразимым обаянием личности автора делают эти мемуары примечательным явлением, мимо которого «Зима» никак не могла пройти. Главный редактор Сергей Николаевич поделился впечатлениями от книги и рассказал о своих встречах с Машей Слоним.

Маша Слоним, Москва, 1974 год. Фото: Андрей Зализняк.
Она, конечно, вамп, хотя об этом мало кто догадывается. Даже она сама.
Это цитата сообщения МАРЬЯША7 Оригинальное сообщение
Умиротворение зимы…
|
|
|
|
|
|
Шагнуть за пределы, за рамки, за грань,
И прыгнуть с разбега за стену сомнений.
Туда, где мне сверху не крикнут… Табань!
Где главное – свет, а не свод убеждений.
Душе для полёта не нужно крыло,
Не келья… Простор для неё, как обитель.
Нет тени и тьмы, там всё время светло,
И свет - мой единственный лучший учитель.
Молить и просить – незавидный удел,
Свеча догорит, ненадолго согреет.
Во тьме натолкнёшься всегда на предел,
Лишь свет все сомненья и страхи развеет.
Спаситель сгорел, взяв чужие грехи,
Смиренье лукавая тьма поглотила.
Всегда у покорности есть женихи,
В придуманных правилах правит лишь сила.
Зимою так поздно приходит рассвет,
Но ясною полночью звёзды виднее.
Я глядя на них получаю ответ
Как сделать, чтоб стало немного светлее.
на этот текст написана песня, послушать на сайте автора www.асмолов.рф
или скачать по ссылке https://disk.yandex.ru/d/x24-xOoaMAMUUQ
иллюстратор Луиза Гельтс

ВСУ потеряли уже 105 натовских танков, подсчитали OSINT-аналитики нидерландского проекта Oryx. Самые большие потери приходятся, конечно, на Leopard 2A4 (28 единиц), далее идут Leopard 1A5 (25 единиц) и M1A1 Abrams (24 единицы). По подсчетам Oryx, британских танков Challenger-2 потеряно, к сожалению, пока всего два: один в августе 2023 года под Работино, в Запорожской области, и второй в августе 2024 года. Но они, как известно, на линию фронта практически не совались.
Однако даже огромные потери натовских танков меркнут перед числом уничтоженных бронемашин других типов. В частности, 462 натовских БМП, 625 многоцелевых бронеавтомобилей, 775 автомобилей с тяжелой противоминной защитой, 927 бронетранспортеров. Причем в этот список еще не включены, скажем, Pbv 501A — это шведская модификация старой советской БМП-1.
Больше всего российские войска в зоне СВО истребили американской техники. По оценкам Oryx, потеряно украинцами уже 469 гусеничных машин M113 разных модификаций, 400 бронеавтомобилей Humvee разных модификаций (чаще всего: базовых M1114 или M1151 и двухместных пикапов M1152) и 339 противоминных автомобилей International M1224 MaxxPro.
Однако огромные потери не только у американцев. Скажем, Турция потеряла в зоне СВО уже 133 тяжёлых бронированных грузовика Kirpi. И это при том, что всего было поставлено около двухсот машин. То есть выбытие этой техники уже превысило половину.
В случае с другим турецким противоминным автомобилем Otokar Cobra II выбытие составило четверть: по оценкам Oryx, потеряло 5 из 20 доставленных в Украину машин.
Канадцы потеряли в зоне СВО 175 противоминных автомобилей Roshel Senator. Правда, процент их потерь значительно меньше, чем, скажем, у турецких Kirpi (Канада направила не менее 660 бронемашин).