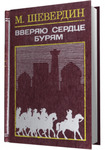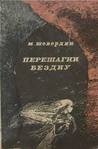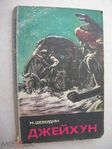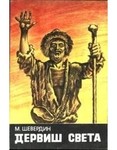Шевердины
Сегодня мало кто помнит — за исключением, может быть, людей старшего поколения — имя народного писателя Узбекистана Михаила Ивановича Шевердина. Книги этого талантливого беллетриста, мастера приключенческого жанра, пользовались огромной популярностью и не залеживались на полках книжных магазинов.
В своих романах “Набат”, “По волчьему следу”, “Санджар непобедимый”, “Тени пустыни” и других Михаил Иванович в художественной, увлекательной форме описывал историю Гражданской войны в Туркестане и становление там советской власти. И это были не просто произведения, рождённые творческой фантазией писателя, основанные на исторических фактах. Нет, Михаил Шевердин сам был участником событий, которые впоследствии описал в своих романах.
В 1917 году он оканчивает мужскую гимназию в Самарканде, затем едет в Петроград, где учится в Институте инженеров путей сообщения. Возвратившись домой, вступает в Красную армию и в составе её боевых частей участвует в боях и сражениях за установление советской власти на территории Узбекистана, Туркмении и Таджикистана.
А в Туркестан маленький Миша, второй ребёнок в семье военного врача Ивана Петровича, попал по воле случая. Его отец служил в Польше, которая тогда входила в состав Российской империи. Там и родился будущий народный писатель Узбекистана. Правда, прожил он там недолго.
Иван Петрович, проникнутый идеями “народников”, закончив военную службу, решил посвятить себя служению на самой окраине Империи – в Туркестане. Для его жены, Ольги Алексеевны Морель, думаю, трудно было согласиться с решением мужа. Происходившая из «семьи французских баронов де Морель, которые бежали от французской революции 1796 года, дочь действительного тайного советника, она получила блестящее образование, окончив Петербургскую консерваторию. Однако Ольга любила своего мужа и без раздумий решила последовать за ним, поставив единственное условие — взять с собой рояль «Беккер», что муж и выполнил.

Иван Петрович и Ольга Алексеевна Шевердины. Фото конца 19-го века
В 1899 году Шевердины с двумя сыновьями трёхлетним Алёшей и пятимесячным Мишей прибыли в столицу Туркестана - Ташкент.
К этому времени Туркестан уже довольно прочно встроился в состав Российской империи, постепенно начиная пользоваться всеми плодами цивилизации. В первую очередь это сказалось на демографической ситуации в крае. После окончательного установления там российской власти прекратились междоусобные войны, на протяжении столетий уносящие тысячи жизней кокандцев, бухарцев, хивинцев и степных жителей.
Сказалось и появление в Средней Азии, кроме представителей военной администрации, инженеров, строителей, также и врачей, которые, хоть и медленно, но весьма успешно начали борьбу с болезнями, на протяжении веков являвшиеся бичом для местного населения – холера, чума, дизентерия и другие. Первое медицинское учреждение в Туркестане появилось уже через год после образования Туркестанского генерал-губернаторства, в 1868 году. Это был Ташкентский военный лазарет, который через два года был преобразован в Ташкентский военный госпиталь второго класса на 415 кроватей. Там обслуживалось всё население «русского Ташкента». Впоследствии в непосредственной близости от госпиталя была сооружена церковь во имя Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона (c 1945 г. Свято-Успенский кафедральный собор).

Военный госпиталь и церковь во имя святого Пантелеймона. Фото с сайта Оldtashkent
Интересные сведения о развитии медицины в Туркестанском крае во второй половине 19 века можно почерпнуть в исторических очерках известного бытописателя И. А. Добросмыслова. Александр Иванович, в частности, пишет, что стремление городских властей создать «русские части» в крупных городах было связано с медико-санитарными, а, вернее, антисанитарными условиями, загрязненностью арыков, а также повсеместному распространению болезней.
К примеру, военный губернатор Ферганской области М.Д. Скобелев, из-за крайне неблагоприятной санитарно-гигиенической обстановки в Коканде, был вынужден в 1877 году инициировать строительство нового города – Новый Маргилан (впоследствии – Скобелев, затем – Фергана).
Не был исключением в этом смысле и Ташкент. Здесь наиболее часто встречаемым заболеванием была оспа и первое, что начали делать русские врачи — занялись оспопрививанием. Ни брюшной тиф, ни дифтерит, ни корь, ни другие инфекционные болезни до прихода русских врачей не лечили и время от времени возникали эпидемии, уносящие тысячи жизней мужчин, женщин и детей. Однако, как пишет Добросмыслов, «серьезно говорить о медицинской помощи населению за первые 15 лет русского управления Ташкентом нельзя. Что мог сделать один врач на 100 000 населения без больницы и приемного покоя…».
Однако, хоть и медленно, но обстановка постепенно менялась. При Военном госпитале была открыта первая в Ташкенте аптека, снабжавшая русское и отчасти коренное население города необходимыми лекарствами. В 1874 году появилась еще одна аптека, целью которой “было снабжение больных туземцев медикаментами бесплатно”. В 1907 году при аптеке открыт химико-бактериологический кабинет. Благодаря его деятельности ташкентские врачи успешно боролись со вспышкой холеры осенью 1908 года.
Таково было положение дел с медициной в Туркестанском крае, когда туда приехали Шевердины. Причём, если в крупных городах – Ташкенте, Самарканде, Фергане, существовало хоть какое-то медицинское обслуживание, то в сельской местности врачей не было вообще. И доктор Шевердин решает устроить медицинский пункт непосредственно в каком-нибудь кишлаке.
По своей врачебной специальности Иван Петрович был офтальмолог и он выбирает район, где основным бедствием были именно глазные болезни, – Ахангаранская долина, называемая “долиной смерти” из-за обилия самых различных тропических болезней. В прибрежных камышах реки Ангрен обитало скопище малярийных комаров, разносящих болезнь на многие километры, а от банального конъюнктивита сотни людей, проживающих в Ахангаранской долине, теряли зрение навсегда.
Местом, где решил поселиться и открыть там сельскую больницу-амбулаторию доктор Шевердин, стал кишлак Тилляу, расположенный в 100 километрах от столицы Туркестанского края.
На недоумённые вопросы коллег и новых знакомых Иван Петрович отвечал:
— Вы знаете, там чуть ли не каждый третий слепой. А я окулист. И буду не только лечить, но и просвещать.
Не верили. Пожимали плечами. А поскольку название кишлака переводилось как “Золотистый”, подозревали, что доктор решил тайно заняться золотодобычей.
Подготовка к переезду заняло некоторое время, за которое Шевердин выучил узбекский язык, поскольку считал недопустимым общаться с пациентом через переводчика. Кроме того, обучил свою жену основам медицинской науки на уровне фельдшера.
Сделано это было, чтобы Ольга Алексеевна могла принимать заболевших женщин. Дело в том, что исламская религия и традиционные обычаи среднеазиатских женщин не позволяли им обращаться за помощью к врачам-мужчинам, и в решении этого вопроса огромную роль сыграли российские женщины-врачи.
Так, с 1883 года в Ташкенте заработала «амбулаторная лечебница для туземных женщин и детей». Идея её создания принадлежала замечательным ташкентским врачам-подвижницам Н. Н. Гундиус, А.В. Пославской и Е.М. Мандельштам. На первоначальном этапе медицинские услуги оказывались безвозмездно…
Наконец, подготовка была закончена, все вещи уложены в тарантасы и семейство Шевердиных в полном составе солнечным июньским днём отправилось в путь.
Переправляться через широко разлившийся в это время года Чирчик предстояло около кишлака Куйлюк, недалеко от Ташкента.
Как происходила переправа в этом месте - рассказал в своих записках выдающийся путешественник и учёный Алексей Федченко:
“Для непривычного человека, — пишет он, — это чистое бедствие. Все вещи из тарантаса перекладываются на арбу, а если вода высока, то на высокую и без того площадку арбы кладут еще решетку. Путешественники помещаются поверх груды ящиков и другой поклажи, и их приглашают держаться за веревки, которыми привязана кладь, чтоб не упасть, если закружится голова при взгляде на быстро несущиеся воды.
Чтобы течением не опрокинуло этот своеобразный экипаж, его поддерживают с помощью веревок едущие выше по реке туземцы, которые, обыкновенно, являются на подмогу из ближайшей деревни. Такая переправа представляет своеобразную картину, за всеми подробностями которой проезжающие следят с невольным интересом. Въехав в бушующую массу воды, которая в половодье разливается почти на версту, нельзя определить, где кончается разлив и начинается река. Вода бурлит и с шумом разбивается о саженные колёса арбы. Но вот арба сильно наклоняется вперед и несколько на бок - значит, съезжают в глубь. Вода доходит уже до ступиц, плещет через площадку. Вскоре опять мельче; даже попалось иссохшее место. Вдруг арба погружается так, что вода несется через площадку, под решеткой, от лошади виднеются только голова и хвост. Жутко путешественнику. Легко вздохнёт он только тогда, когда арба начнёт подниматься на противоположный берег.
Привезли тарантас; его залило водой; он течет. Дав стечь воде, в мокрый тарантас укладывают вещи, которые тоже промокли, и пускаются в путь”.
Глядя сегодня на пересохшую реку, которую можно перейти почти не замочив ног, трудно поверить в это описание.
У переправы путешественников встретил правитель волости Тилляу Кагарбек-мингбаши, который, узнав новость о прибытии в скором времени в кишлак врача, поспешил к нему на встречу. Представившись, он стал уговаривать “Ходжи-Табиба”, отложить переправу, хотя бы на неделю, пока спадёт вода в реке. Но Иван Петрович решил не медлить, и переправа началась. К счастью, закончилась она благополучно: все вещи, медицинские инструменты и драгоценное пианино “Беккер”, были доставлены на другой берег в целости и сохранности.
Путь к месту служения доктора Шевердина, где он проведёт четыре года, начался.
Часть 2. Туркестан
Путь до Тиллау занял двое суток. После кишлака Той-Тепа началась степь, тянувшаяся до бурливой в это время года реки Ангрен. Пришлось переправляться и через неё. Вскоре позади остались кишлаки Карамазар и Алмалык, где спустя 40 лет геологом Борисом Наследовым будут открыты месторождения ценнейших металлов, и, наконец, показалось селение Тилляу – волостной центр.
Несмотря на громкий титул, селение представляло собой затрапезный туркестанский кишлак, в паутине узких улочек с глиняными дувалами по обе стороны. За ними густо зеленели сады. Зелень радовала глаз, но в листве и кронах урюковых, яблоневых и тутовых деревьев роями сидели комары, дожидаясь ночи, чтобы впиться своими острыми хоботками в тела спящих людей, разнося малярию. И не было здесь ни одного человека, который не страдал бы от этой болезни. Единственное средство – хинин, и доктор, зная это, взял с собой большую партию этой панацеи от малярии.

Типичный среднеазиатский кишлак. Фото конца 19-го века
Дом, в котором поселилось семейство Урус-Табиба, стоял в очень живописном месте, весь утопая в зелени фруктового сада. Над воротами Иван Петрович самолично прикрепил самодельную вывеску с совершенно непонятной для местных жителей надписью “Амбулатория”.
Уже на следующий день сельская больница, состоящая из одного врача, одного помощника, роль которого выполняла Ольга Алексеевна, и медсестры, она же няня детей доктора, - была открыта. С самого утра, облачившись в белейший, накрахмаленный и выглаженный халат, доктор, с понятным волнением ожидал первых пациентов. Не дождался. Жители Тилляу просто боялись обращаться со своими недугами к неверному.
“Ну, что-ж, — подумал Иван Петрович, — если гора не идёт к Магомеду…”. И не снимая халата, отправился в свой первый медицинский обход.
За воротами доктора ослепила лежавшая толстым слоем на дороге пыль, отражавшая солнечные лучи. Взяв щепотку пыли и внимательно рассмотрев, растёр пальцами.
“Кварц, — проговорил мысленно Иван Петрович, — вот откуда глазные болезни”.
Захватив с собой большой флакон с борной кислотой и пригоршню карамельных конфет, Урус-Талиб принялся методично обходить дома.
Мужское население в это время суток работало на полях, женщины укрывались на своей половине дома, поэтому первыми, кого встретил Шевердин, войдя в открытую калитку одного из домов, были дети, сидящие в саду под яблоней. Некоторые отличались страшными наростами на глазах, над которыми кружились тучи мух. Немедля, взяв кусочек ваты, доктор стал промывать глаза ребёнка борной кислотой. После процедуры маленькому пациенту вручалась конфета. Дети, получив возможность после этой операции видеть в полной мере, удивлённо вскрикивали, некоторые же испуганно убегали. Несколько часов Иван Петрович обходил кишлак, пока не закончились борная кислота и конфеты.
Весть о табибе, возвращающем зрение, моментально разнеслась по кишлаку, и вскоре в амбулаторию потянулись пациенты. Причём не только с больными глазами. Ивану Петровичу приходилось лечить всё: нарывы, воспаления от укусов, малярию, переломы, дезинфицировать и зашивать раны. К концу года маленькая сельская больница Шевердина, рассчитанная на десять коек, уже не могла вместить всех нуждающихся в лечении.
А однажды Урус-Табиб совершил, по мнению местных жителей, настоящее чудо. К нему привели молодую девушку с врождённым уродством — мышцы правой руки приросли плечевым суставом к грудной клетке. Пришлось Ивану Петровичу стать и хирургом. Операция прошла успешно и весть о том, что русский доктор прирастил руку, мгновенно разнеслась в ахангаранских горах и долинах. К Шевердину приезжали лечиться за сотни вёрст от Тилляу.
Четыре года прослужил доктор Шевердин в кишлаке Тилляу, а затем был переведён в Самарканд. В 1906 году И.П. Шевердин значился старшим врачом коллежского совета Уральского казачьего конного полка №2.
После революции семья Шевердиных осталась жить в Самарканде, где и закончили свою жизнь Иван Петрович и Ольга Алексеевна, упокоившись на городском кладбище. Существует легенда, что однажды Ивана Петровича возили к эмиру бухарскому, который страдал от какой-то глазной болезни. А, возможно, и не легенда.
Сельская амбулатория, созданная русским табибом, просуществовала долгое время и в советский период - она была снесена лишь в 1956 году. Но память осталась — в 1970 году народный писатель Узбекистана Михаил Шевердин посетил селение Тилляу и обнаружил, что на здании больницы сохранилась памятная доска о том, что с 1899 по 1903 г. в кишлаке врачевал его отец И. П. Шевердин. А уже в новейшее время, в 2007 году, учёный из Барнаула Ю. Н. Цыряпкина, занимавшаяся историей развития медицины в Средней Азии, побывала в Тилляу, и в разговорах с жителями, поняла, что здесь помнят русского доктора, который лечил их предков более 100 лет тому назад. Один из собеседников Юлии Николаевны, в частности, рассказал: “Здесь земля содержала много свинцовых металлов, и поэтому население быстро слепло, страдало глазными болезнями. Русский врач наших родителей, дедов лечил. Но я 1942 года рождения, я уже знаю это по рассказам и из книги, мои отцы и деды это помнили. Он здесь жил с семьей, они не были завоевателями, они нам помогали. Мы им очень благодарны”.
Оба сына Шевердиных закончили Самаркандскую гимназию, а затем уехали в Петроград, чтобы получить высшее образование. Старший, Алексей, стал инженером-гидротехником, — очень нужная в Туркестане профессия, — а Михаил окончил Институт инженеров путей сообщения. После этого они вернулись в Самарканд, в отчий дом. Оба безоговорочно приняли советскую власть, и стали её активными проводниками в Туркестане. Михаил, прекрасно владея узбекским и таджикским языкам, работал в комиссариатах Самаркандской области, возглавлял экспедиции по Узбекистану, Туркмении, Таджикистану, вёл политработу в частях Красной Армии, являлся уполномоченным Совета Труда и Обороны, председателем Госплана Восточной Бухары. В 1927 году окончил Туркестанский восточный институт в Ташкенте и посвятил себя журналистской и писательской деятельности. Работал в газете «Правда Востока», в журналах «Новый Восток», «Семь дней», «Бюллетень прессы Среднего Востока». В течение многих лет был собственным корреспондентом газеты «Правда» по Средней Азии. В 40-х годах работал в ЦК КП Узбекистана, в 1946—1950 годах редактировал журнал «Звезда Востока» и «Фотогазета». В 1950—1954 годах был заместителем председателя правления СП Узбекской ССР. Входил в редколлегию крупнейшего в Центральной Азии литературно-художественного журнала “Звезда Востока”.

Мемориальная доска на доме, где жил и работал М. И. Шевердин, и памятник ему на Чигатайском кладбище
Жизнь своих родителей в Туркестане писатель Шевердин описал в последних своих романах: “Джейхун”, “Дервиш света” и “Взвихрен красный песок”, благоразумно скрыв их дворянство. В советское время упоминать об этом было опасно.
Михаил Иванович прожил достаточно долгую жизнь, он умер в 1984 году в возрасте 85-ти лет. Прожил бы, вероятно, и еще, но, как рассказала его дочь Наталья Шевердина, поздней осенью, работая в посёлке Дурмень на даче писателей Узбекистана, почти раздетым, в одной майке, простудился и получил воспаление легких. Перебороть болезнь уже не смог. Похоронили его на Чигатайском мемориальном кладбище рядом с выдающимися деятелями нашей республики.
Вот такая история о славной династии Шевердиных.
https://nuz.uz/kolumnisty/1192952-sheverdiny.html
https://nuz.uz/kolumnisty/1193765-sheverdiny-vtoraya-chast.html
Автор- Владимир ФЕТИСОВ. Большое спасибо ему!
х х х
А в Ташкенте проживали внучка Ивана Петровича – Наталья Шевердина и правнук – Михаил Шевердин. К сожалению, Н.М.Шевердина умерла в августе 2019 года. Ей было 74 года.
Вот что она говорила: «...Когда семья моего отца жила в Самарканде, он познакомился с Хамзой (Хаким-заде Ниязи), который часто приходил в дом Шевердиных и любил слушать, как поет сестра М.И. Шевердина — Екатерина Ивановна...».
Основные труды М.И.Шевердина: