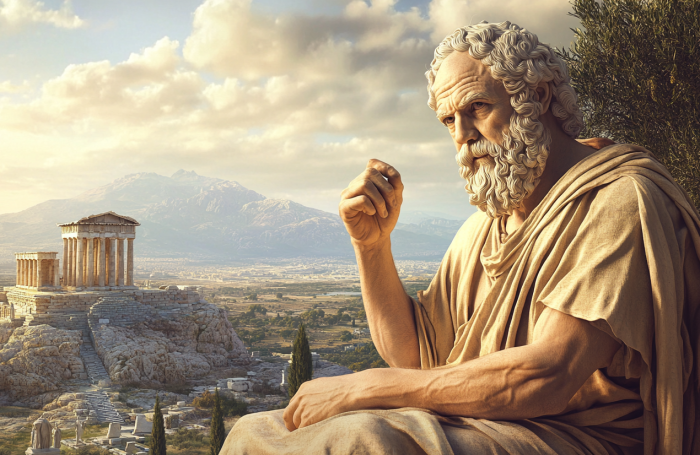Это цитата сообщения Stefaniia-Stefa Оригинальное сообщение
Рыночный философ и его опасные вопросы
«Он первым стал рассуждать об образе жизни и первым из философов был казнен по суду». Эту краткую и убийственно точную характеристику Сократу дал Диоген Лаэртский. И действительно, Сократ был явлением для Афин совершенно уникальным. Пока другие мудрецы, задрав головы, пытались разглядеть устройство небес и понять, из чего состоит материя — из воды, воздуха или каких-нибудь невидимых атомов, — Сократ занимался вещами куда более приземленными и опасными. Он спустил философию с небес на землю, прямо на пыльные, шумные улицы Афин. Его не интересовали звезды, его интересовали люди. По его собственным словам, он исследовал лишь одно: «что у тебя и худого и доброго в доме случилось».
Его лабораторией были рынки и мастерские, а подопытными кроликами — все, кому не посчастливилось попасться ему на пути: самодовольные политики, заносчивые поэты, уверенные в своем мастерстве ремесленники. Он не читал лекций и не писал книг. Его метод был прост, как мышеловка, и так же эффективен. Он подходил к человеку и задавал простой вопрос: «Что такое справедливость?», «Что такое добродетель?», «Что такое мужество?». Собеседник, обычно не сомневающийся в своей компетенции, с легкостью давал ответ. И тут начиналось самое страшное. Сократ, прикидываясь простаком, начинал задавать уточняющие вопросы, каждый из которых, как точный удар резца, откалывал куски от монолитной уверенности оппонента. Через десять минут разговора выяснялось, что прославленный полководец не может внятно объяснить, что такое мужество, а уважаемый судья путается в определении справедливости. Человек, который был уверен, что знает все, оставался в полном недоумении, с ощущением собственного невежества и унижения. Сократ называл это «майевтикой» — повивальным искусством, утверждая, что он не учит, а лишь помогает человеку родить истину, которая уже есть в нем. На практике это больше походило на публичную интеллектуальную порку.
Разумеется, людям это не нравилось. Как писал Диоген, «нередко его колотили и таскали за волосы, а еще того чаще осмеивали и поносили; но он принимал все это, не противясь». Он был городским оводом, который не давал афинскому коню — государству — заплывать жиром и дремать в самодовольстве. Но никому не нравится, когда его постоянно кусают, даже если это делается во имя высшего блага. Особенно если этот овод своими вопросами ставит под сомнение саму основу их мира — великую и незыблемую афинскую демократию. Сократ безжалостно высмеивал главный ее принцип — выборы должностных лиц по жребию. «Цари и начальники, — говорил он, — это не те, что имеют скипетры или избраны кем бы то ни было... или получили власть по жребию, или насилием, или обманом, но те, которые умеют управлять». Разве можно, вопрошал он, выбрать кормчего для корабля, бросая кости? Или врача? Почему же тогда самое сложное искусство — управление государством — мы доверяем слепому случаю? Такими речами он не просто наживал себе врагов, он подпиливал ножки трона, на котором сидел афинский демос. И демос этого не забыл.
Друзья наверху, враги внизу
Чтобы понять, как чаша с ядом нашла своего героя, нужно посмотреть не только на то, что говорил Сократ, но и на то, кому он это говорил. Философией и риторикой в Афинах занимались люди, у которых было на это время и деньги, — аристократия. Именно в их кругу Сократ был своим. Его учениками и друзьями была «золотая молодежь» Афин: гениальный и богатый Платон, блестящий, но беспринципный Алкивиад, жестокий и властный Критий. Это были люди, которые презирали власть толпы и мечтали об «идеальном государстве», где править будут лучшие — то есть они сами. И Сократ, с его идеями об управлении «знающими», давал их политическим амбициям философское обоснование.
А в это время внизу, в Народном собрании, настроения были совсем другими. После смерти Перикла, с которым, к слову, Сократ был в дружеских отношениях через его возлюбленную Аспасию, власть в Афинах перешла в руки демагогов — людей из народа, которые умели красиво говорить и ненавидели аристократов. Городом поочередно управляли торговец паклей Евкрат, торговец овцами Лисикл, владелец кожевенной мастерской Клеон, торговец лампадами Гипербол. Это были крикливые, жадные и необразованные люди, которые держались у власти, играя на самых низменных инстинктах толпы, главной из которых была ненависть к богатым бездельникам.
В глазах простого афинянина — сапожника, горшечника или земледельца, который в поте лица добывал свой хлеб, — Сократ был чужаком. Да, он был нищ, ходил босиком и в старом хитоне, но вся его жизнь проходила в беседах с аристократами. Он выглядел как социальный предатель: свой по бедности, но чужой по духу, человек, который заискивает перед богачами и учит их сыновей презирать народную власть.
Ситуация усугубилась после катастрофического поражения Афин в Пелопоннесской войне в 404 году до н.э. Спартанцы распустили Афинский морской союз, срыли Длинные стены и установили в городе жестокий олигархический режим — «правление Тридцати тиранов». И кто же возглавил этот режим? Ученики и друзья Сократа — Критий и Хармид. Их правление было недолгим, но город надолго запомнил его суровость. Сотни афинских демократов безвременно покинули этот мир, минуя суд и следствие. Через год демократию удалось восстановить, но шрамы остались. И хотя сам Сократ не принимал участия в правлении тиранов и даже, по некоторым сведениям, ослушался их приказа, тень их деяний легла и на него. Для восстановленной демократии он был символом старого, враждебного мира, человеком, который воспитал чудовищ. Терпеть такого «овода» в ослабленном и напуганном городе больше не хотели. Нужно было лишь найти формальный повод.
Суд толпы: поэт, кожевник и ритор
Повод нашелся в 399 году до н.э. В афинский суд было подано официальное обвинение. Его авторами были три человека, идеально представлявшие силы, желавшие гибели философа. Первым был Мелет, молодой и никому не известный поэт-трагик, типичный представитель творческой интеллигенции, обиженной на вечные насмешки Сократа. Вторым — Ликон, профессиональный ритор, чье искусство красиво говорить, не заботясь о содержании, Сократ презирал больше всего. Но главной движущей силой заговора был третий — Анит. Это был влиятельный и богатый демократический политик, владелец кожевенных мастерских, один из лидеров сопротивления тиранам и герой восстановленной демократии. У Анита были и личные мотивы: его сын был увлечен беседами Сократа, и отец опасался, что философ сбивает отпрыска с пути истинного, отвращая его от семейного дела и политики.
Формулировка обвинения была расплывчатой и страшной: «Сократ виновен в том, что не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества, и виновен в том, что развращает молодежь». Под «новыми божествами» имелся в виду «даймоний» — внутренний голос, к которому, по словам Сократа, он всегда прислушивался. А «развращение молодежи» — это и было его знаменитое «повивальное искусство», заставлявшее юношей сомневаться в авторитете отцов и незыблемости афинских порядков. По законам Афин это были тягчайшие преступления, караемые смертью.
Суд состоял из 501 гелиаста — судьи, избранного по жребию из числа граждан. Это была толпа, та самая, которую Сократ так презирал. Исход был предрешен. Подговорить или запугать несколько сотен человек, лично знавших Сократа, было невозможно. Они голосовали по совести. И эта совесть, подогретая многолетней неприязнью, речами обвинителей и политическим расчетом, вынесла свой вердикт. Большинством в 280 голосов против 221 Сократ был признан виновным. Великая афинская демократия осудила человека за то, что он задавал слишком много вопросов.
Худшая защитная речь в истории
По афинским законам, после признания вины у подсудимого было право самому предложить для себя наказание, альтернативное тому, которого требовал обвинитель. Это был шанс спасти свою жизнь, предложив, например, изгнание или крупный штраф. Любой другой на месте Сократа воспользовался бы этой лазейкой. Но Сократ не был бы Сократом, если бы пошел на компромисс. Вместо того чтобы просить о снисхождении, он решил и здесь преподать афинянам последний урок.
Он встал и заявил, что всю жизнь, подобно оводу, будил их от спячки и заботился о нравственности каждого. За такую неоценимую пользу для государства он не заслуживает наказания. Напротив, он заслуживает высшей награды, которую Афины дают своим олимпийским чемпионам и величайшим благодетелям, — пожизненного бесплатного обеда в пританее за общественный счет.
Это была неслыханная дерзость. Насмешка. Пощечина всему суду. Судьи, которые, возможно, и колебались, пришли в ярость. Шум и гнев прокатились по рядам. Поняв, что шутка зашла слишком далеко, друзья Сократа, стоявшие рядом, — Платон, Критон, Критобул — стали умолять его одуматься. Наконец, он нехотя согласился предложить штраф. Сначала он оценил свою «вину» в одну мину серебра, заявив, что больше у него все равно нет. Затем, после уговоров друзей, которые поручились за него, он увеличил сумму до тридцати мин. Это была немалая, но вполне подъемная для его богатых учеников сумма. Однако после предложения обеда в пританее это уже не имело значения.
Судьи должны были выбрать между смертной казнью, которой требовал Мелет, и штрафом, который предложил Сократ. Второе голосование было еще более разгромным, чем первое. К тем 280, кто изначально считал его виновным, добавились еще 80 судей, оскорбленных его поведением. Большинством в 360 голосов Сократ был приговорен к смерти. Он не просил о жизни, он издевался над своими судьями, и они ответили ему единственным доступным им способом. Он сам выбрал свою судьбу.
Петух для Асклепия: последний укол философа
Приговор был вынесен, но его исполнение пришлось отложить почти на месяц. По афинскому обычаю, во время священного посольства на остров Делос в городе не могло быть никаких казней. Это время Сократ провел в тюрьме, в окружении своих учеников. Друзья разработали детальный план побега, подкупили стражу. Все было готово. Критон пришел к нему с последней мольбой — бежать. Но Сократ отказался. Он, который всю жизнь учил уважать законы, не мог на старости лет стать беглецом и нарушителем. Бегство, сказал он, означало бы признание своей вины и перечеркнуло бы все, чему он учил. Он предпочел уйти из жизни, подчиняясь несправедливому приговору, но сохранив верность своим принципам и законам своего города.
В назначенный день, после захода солнца, в тюрьму принесли чашу с ядом — соком цикуты. В прежние, более суровые времена, преступников в Афинах отправляли в пропасть. Но «гуманная» демократия ввела новый, более цивилизованный способ расставания с жизнью. Сократ спокойно взял чашу, без дрожи и отвращения. Он простился с рыдающими друзьями и выпил яд до дна.
Палач велел ему ходить по камере, пока ноги не отяжелеют. Когда холод начал подступать от ног к сердцу, он лег. Его последние слова, обращенные к Критону, были странными и породили множество толкований: «Критон, мы должны Асклепию петуха. Так отдайте же, не забудьте». Асклепий был богом врачевания. В Греции ему обычно приносили в жертву петуха в благодарность за исцеление от болезни. Возможно, Сократ считал смерть исцелением души от оков бренного тела. А может, это была его последняя ирония — благодарность за излечение от самой тяжелой болезни под названием «жизнь». Этого мы уже никогда не узнаем. Это был последний, самый тонкий укол афинского овода.