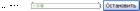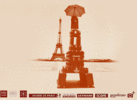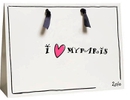Это цитата сообщения myparis Оригинальное сообщение
показушник жеманный.
Рассуждает с видом знатока,
а несёт полную чушь.»
(из недавних комментариев)
Несмотря на свою молодость, искусствовед и декоратор Александр Васильев стал мировой легендой. Он сжал время до предела, оформив свой первый спектакль в 12 лет и завоевав в 41 титул "Гуру моды". Канул в Лету забавный костюм с циферблатом на животе, в котором Саша вел на ЦТ передачу "Будильник", сегодня его -- профессора Королевского колледжа искусств, владельца богатейшей коллекции старинных костюмов, автора уникальной книги "Красота в изгнании" -- называют "рафинированным космополитом и эстетом", "дэнди, сошедшим с обложек журналов".
У него за плечами четыре витка вокруг земного шара, 55 стран, он знает семь языков. Последние 20 лет живет в Париже, но застать его там трудно. Колоссальные познания в области истории и талант рассказчика делают его находкой для журналиста. В Китае он научился есть крыс, в Исландии --не запирать дом, в Турции -- сбивать цену в магазинах, в Латинской Америке-- радоваться настоящему и не верить в завтра. "Я везде чувствую себя как дома!" -- признается Александр.
Штрихи к портрету
– Как получилось, что шарф стал вашей знаковой вещью?
– Стал знаковым, да, я его все-таки уже лет двадцать ношу. А раньше не носил. Теперь все смирились с этим. Отчасти человек становится заложником своего знака – как Татьяна Михалкова банта на голове, Рената Литвинова – волны на прическе…
– Какой ваш главный жизненный урок?
– Быть всегда креативным.
– Что в жизни вам дается труднее всего?
– Даже затрудняюсь сказать…
– Может быть, рано вставать?
– Нет, для меня это не проблема. Как и постоянные переезды или смена деятельности. Знаете, что не люблю: складывать бумажки. Делать это приходится, но не люблю.
– Лучший совет, который вам давали?
– Сначала думай, а потом говори.
Мы говорили с ним о том, чем люди в разных странах отличаются друг от друга. Об отличиях мы говорили несколько часов, а общее нашли только одно: каждая страна в ужасе от своих соседей...
Французы: не страдать ни в любви, ни в смерти
Их страна -- диктатор мирового вкуса в моде, арбитр элегантности, законодатель стиля жизни. Миллионы людей мечтают "Увидеть Париж -- и умереть". Провинциалы приезжают в столицу и влачат жалкое существование только ради того, чтобы сказать: "Я живу в Париже!" Самодостаточность этой нации достойна аплодисментов. Есть поговорка: "Невозможное -- это не по-французски". Свобода делает возможным все. Рожденные революцией, французы не приемлют диктата и убеждены, что все должны знать их язык.
Сами владеют английским на уровне 3-го класса средней школы и считают это великим одолжением. Они не жалуют иностранцев, ну разве что хорошеньких девушек, преимущественно блондинок, говорящих по-французски.
Французов объединяет одна черта -- всепоглощающая любовь к жизни, несовместимая с трудолюбием. Больше всего на свете француз любит хорошую погоду, живописный пейзаж, вкусную еду и красивую женщину. Аура приятного времяпрепровождения -- т. н. "фарньенте", составляет французскую манеру жить. Жизнь должна быть эстетически красивой. Француз никогда не будет есть на газете, пить сок из чайной чашки, пользоваться алюминиевой вилкой, сидеть в неубранном помещении и лихорадочно курить, жалуясь на нехватку денег.
Но одновременно у него есть абсолютный комплекс собственного жилья. Вас пригласят в дом только в двух случаях: если захотят уложить в койку или если вы близкий родственник. Все остальные встречи происходят в кафе. Прожив в "их стране" почти 20 лет, я имею немало друзей, в домах которых до сих пор не бывал. Обычно приглашение поступает через 5-7 лет знакомства, когда вас проверят "по всем швам" и будут уверены, что вы не
украдете у них серебряную ложечку за питьем кофе. Подобная подозрительность может обидеть славян, растерявших за годы коммунистического правления представление о манерах, но для Франции это совершенно естественно.
Наглухо закрытые двери квартир можно объяснить и другой причиной: французы стыдятся неудобства собственных жилищ. Париж вне конкуренции по количеству одиноких людей обоих полов, которые, как правило, живут в студиях, то есть в однокомнатных квартирах площадью от 8 до 30 кв. м с неизменно белыми стенами и лампочкой посередине потолка. В один угол встраивают маленькую, "американскую" кухонку, в другой -- душ, на полу раскладывают матрас. У одиночек обычно нет стола и стула. "Комплекс жилья" тщательно скрывают. Любимая отговорка: в квартире еще не закончен ремонт, но через два года все будет в порядке, и я вас обязательно приглашу...
Важнейший принцип французской жизни -- это искусство быть и искусство казаться. В зависимости от амбиций человек надевает маску наследника барона, герцога или гениального творца. Типичный диалог: "Я художник" -
"А что вы нарисовали?" - "Пока еще подбираю цветовую гамму красок" - "Покажите что-нибудь из ранних работ" - "Знаете, это не всем можно показывать"...
Французы выдают себя за кого-то другого в основном для того, чтобы повысить свой социальный статус. Искусство казаться ни в коем случае не ложь -- это гениальный спектакль, который разыгрывают, чтобы доставить удовольствие себе и собеседнику. Вы даже не заметите, как поверите в реальность сказки и хотя бы пару дней будете счастливы. К вам подсядет милая дама и скажет: "Вообще-то я не имею привычки знакомиться в кафе. Но, увидев вас, я поняла, что именно вы -- героиня моей будущей картины. Вас ждет великое будущее драматической актрисы!" Часа полтора вам будут рассказывать сценарий, назовут имена звезд, с которыми вы будете
сниматься, опишут великолепие замков, где пройдут съемки, а также щедрый гонорар и умопомрачительный успех. Потом дама сообщит, что завтра начнутся пробы грима и причесок, и пообещает позвонить. На следующий день вам обязательно позвонят, но пробы перенесутся. А потом звонков уже не будет. Вы случайно встретите эту женщину через пару лет и спросите, что же тогда случилось. И она ответит: "В моей жизни многое изменилось. Я сейчас работаю в парикмахерской, так что заходите..."
Слова французов не значат ровным счетом ничего. Для того, чтобы сделать вашу жизнь приятной, они готовы расписать ее самыми жирными масляными красками. Но после потешаются над иностранцами, которые не поняли, что все это слишком красиво, чтобы быть правдой.
Французы не умеют страдать ни в любви, ни в смерти. Для них не существует прошлого, это единственная нация, которая выбрасывает письма в мусорник, не утруждая себя ответом. Прошлое мертво. Зачем носиться с покойниками?
Однажды из города Труа мне позвонила дама по объявлению о коллекционировании старинных костюмов. Я приехал по указанному адресу и увидел исхудавшую женщину лет 55. Она одна жила в двухэтажном барском доме, где было комнат десять, обставленных дорогой мебелью. В ящиках лежали старинные перья, шляпки, ткани. Я задал ей вопрос, который во Франции считается неприличным: "Что вынуждает вас расстаться со всем этим?" И хозяйка ответила: "Я смертельно больна". -- "У мадам нет семьи?" -- "Конечно есть! Муж и двое детей". -- "Почему же вы занимаетесь распродажей сейчас?" -- "Муж, узнав о болезни, переехал к любовнице, но он честно навещает меня два раза в месяц. Дети живут в других городах. Они сказали: "Мамочка, мы бы не хотели после твоей смерти
копаться в твоих вещах. Пожалуйста, потрудись продать их до кончины и оставить нам только наличные". В том числе попросили избавиться от кровати из-под меня, чтобы после смерти ликвидация была быстрой"... Когда рассказываешь об этом славянам, они возмущаются: какое варварство! А французы говорят: она правильно поступила -- меньше забот детям!
Французская любовь подобна паутине, которая сначала опутывает вас по рукам и ногам, но вдруг исчезает, уносимая первым порывом ветра -- и кажется, что ее не было вовсе. Француженка грустит о потерянном любовнике лишь неделю, затем находит другого и с улыбкой произносит: "Слава богу, что жизнь преподнесла мне такой сюрприз: я наконец-то встретила достойного человека!" При расставании отношения рвутся навсегда. Разведенные муж и жена, даже прожив 10-15 лет вместе, не увидятся больше никогда. Единственное, что может заставить их встретиться -- общие дети. Логика проста: "Мы разводились не для того, чтобы опять встречаться". Они совершенно не сентиментальны и зачеркивают прошлое моментально. Французы наслаждаются днем сегодняшним, убежденные в том, что они - главная нация и знают, как жить.
— Кто вам помогает стильно одеваться, может, личный портной?
— У меня его нет. Обращался к портным много раз, никто не захотел мной заниматься, несмотря на то, что я медийное лицо, все-таки каждый день по телевизору показывают, да еще в передаче с говорящим названием «Модный приговор». Броши, шарфики – делают, а так, чтобы шить – нет. Много раз обмеряли, брали ткань – ничего не дождался.
— А сложности в чем? Может, вы слишком требовательный клиент?
— Откуда я знаю? Это их надо спрашивать. Поэтому одеваюсь я только в магазине.
— Вкус русских в одежде изменился?
— Да, и в лучшую сторону, ведь теперь куда больший выбор одежды по сравнению с прежними годами. Появилось много информации о моде, один я выпустил 23 книги! Появилась возможность читать журналы о моде, смотреть телепередачи, есть специальные fashion-каналы. А главное – есть возможность путешествовать. Визу еще требуют, но люди стали больше ездить, смотреть, как одеваются в других странах. Все это развивает вкус к моде. Особенно подсели на моду русские женщины, мужчины – в меньшей степени. Да их в нашей стране вообще меньше, чем женщин, в отличие, от Норвегии, скажем. И чтобы привлечь внимание мужчин, русской женщине надо выделиться, в частности, одеждой.
— Какое место в вашей жизни занимает написание книг?
— Огромное, я им уделяю большое значение. При переиздании стараюсь устранять неточности, потому что иногда люди мне пишут: «Моего папу звали Николай Порфирьевич, а не Николай Петрович». Если для людей такие вещи имеют значение, я всегда исправляю. Как и неточности в датах, что тоже случается. Я же пишу книги один, рабов у меня нет. И я рад, что стал в этом деле монополистом, потому что нет ни одного историка моды в России, который бы выпустил столько книг. И какой резонанс – «Красота в изгнании» переиздана 12 раз! Но она и далась наиболее тяжело: материал для нее собирался в течение 10 лет. Это было трудно, но благородно – я работал с живой натурой, люди и события, в ней описываемые, еще были живы. Возьмись я за нее сейчас, пришлось бы собирать материалы по архивам.
— Что значило прошедшее десятилетие для вас лично?
— Это был скачок на большую высоту. Особенно благодаря популяризации книг, потому что в основном все они за эти десять лет и вышли. Ну и «Модный приговор» тоже многое сделал, потому что его смотрят русские по всему миру – и в Америке, и в Австралии, и в Грузии, и по всей Прибалтике… Это дает большие результаты лично для меня – возможность путешествовать, приобретать новую недвижимость, пополнять мою коллекцию старинных костюмов. Десять лет назад она составляла 3,5 тысячи единиц, а сейчас это 10 тысяч. Слава Богу, хранилище под Парижем пока вмещает мои сокровища.
— Каким вы видите будущее своей коллекции?
— Сетовать на ее судьбу вроде бы не приходится: она без конца выставляется. За эти десять лет побывала в Токио, Гонконге, Стамбуле, только что прошли выставки в Риге и Вильнюсе. В Москве в музее Зураба Церетели до середины января будет работать выставка «От мини до макси». Это мода 60-х годов, там выставлены исключительные вещи больших мастеров – Диора, Кардена, Шанель, Бальмена, Куррежа, Ирины Голицыной, Живанши…
Но больше всего на свете я желал бы создать в России музей моды, подобный тем, что есть в Париже, Лондоне, Барселоне, Мадриде, Венеции, других городах по миру. Но пока ничего не получается. Над идеей работал в свое время Валентин Юдашкин, выходил на Юрия Лужкова, но 18 лет его правления не хватило, чтобы решить дело. Это опять-таки наше отношение к моде. Как вы понимаете, иных уж нет, а те далече...
Журнал «Ателье» № 01/2011 (январь)
 [526x130]
[526x130]
 [240x320]
[240x320]
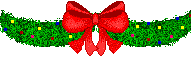
 [374x363]
[374x363]