Из сборника "Статьи советской эстрады" 1992 год
21-10-2018 10:20
к комментариям - к полной версии
- понравилось!
Это цитата сообщения ALLA555 Оригинальное сообщение
Из сборника статей "Певцы советской эстрады" - Валерий Леонтьев
Недавно с мамой у неё дома разбирали мой книжный архив, где я обнаружила удивительную находку - сборник статей "Певцы советской эстрады", оформленный в виде книги в мягком переплете. В сборник вошли статьи о замечательных артистах: А. Малинине, Т. и С. Никитиных, Л. Долиной, Я. Йоала, Т. Гвердцители, Я. Евдкимове, Т. Синявской, С. Захарове, Л. Вайкуле и т.д., ВИА "Песняры", "Иверия" и многих других. А самое главное, что я увидела - статья о Валерии Леонтьеве. Купила я этот сборник в 1992 году... А сейчас прочитала заново, освежила в памяти, и подумала, что другим тоже было бы интересно ознакомиться с публикацией. Попыталась статью сканировать, но из этой затеи ничего не вышло. Переплет книги на клеевой основе, странички отстают, выпадают... Поэтому отсканировала только обложку, а текст статьи набирала на компьютере... Предлагаю его вашему вниманию:

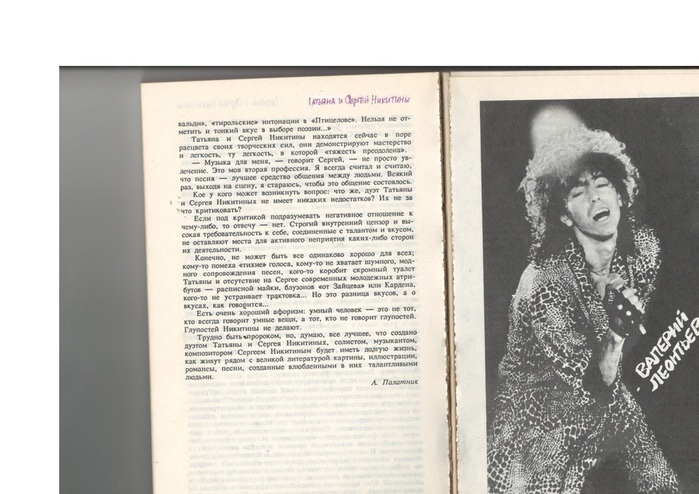
"Этот крошечный телесюжет запомнился миллионам телезрителей. Фестиваль «Золотой Орфей» 1980 года, парад победителей. Высокий, гибкий артист с худым лицом, пронзительным взглядом и копной черных волос исполнял «Танцевальный час на солнце» Давида Тухманова. Это была новая версия песни 1972 года: космический вальс стал в соответствии с новой музыкальной модой космическим диско, а упоминаемый в песне танцевальный круг – дискотечным пятачком. Исполнитель пел резким, чуть носовым звуком с широкой вибрацией. Правда, чудесные строки Семена Кирсанова можно было расслышать не везде, подача текста вообще не была, видимо, главным – настроение создавалось ритмом. При этом певец, одетый в свободную батистовую блузу, постоянно перемещался по сцене в странном, захватывающем танце – резкие жесты рук напоминали то взмахи крыльев, то языки пламени.
Исполнителя звали Валерием Леонтьевым. Совсем новое, незнакомое имя. Первая премия фестиваля. Не всё в вокале было технически совершенным – встречались небрежные фразы, мелкие сбои. Однако в целом молодой артист показал редкую для эстрады тех лет сценическую раскованность; вокал, жестикуляция, движение сосуществовали у него на равных. Наряду с танцевальными па он использовал элементы балета, пантомимы и даже цирковой акробатики. Микрофон также был участником игры – певец легко перебрасывал его из одной руки в другую, жонглировал им, словно мячиком или булавой.
Таки оказалось первое знакомство. Телевизионным.
Через несколько месяцев на радио появились пленки с первыми записями Леонтьева. Большого впечатления на меня лично они не произвели.
… Всё решил разговор с композитором Давидом Тухмановым.
- Нового талантливого певца Леонтьева слышал?
- Слышал. Но ведь ничего особенного. А некоторые приемы распева даже какие-то манерные.
- А на концерте был, видел его «театр песни»?
- Нет, не был, не видел.
- Тогда рано что-то говорить. Завтра в «Олимпийской деревне» его программа. Билеты я достану. Послушай, и посмотри, как он работает.
И вот Большой зал «Олимпийской деревни». Набит до отказа, билеты спрашивают ещё у станции метро «Юго-западная». Оркестр играет вступительное попурри. Ритмично подмигивают лампочки, вмонтированные в помост ударника.
Появляется Леонтьев: светло - коричневый костюм - тройка, узкий пестрый галстук. Поет свои вещи из диско серии. Движения пока скупы. Лишь изредка – резкий акцент рукой. Музыка легка, мелодична, но певец придает ей некую напряженность. Он сжат, как пружина. И этот накал – мысли, песни – умеет передать слушателю. Заразить ею. В инструментальных проигрышах – первые элементы танца. Тело недвижимо, ноги, словно в рапидном замедлении, начинают выписывать первые па. «Песня о чудаке» - на голове шляпа, через плечо шарф. Будто трагический Пьеро: «Смейтесь, ну что ж вы не смеетесь? Ведь это очень смешно!»
«Поэма о гитаристе» Д.Тухманова на стихи Р. Рождественского. Песня – воспоминание, в которой мелодия постепенно оживает жестом. Каждое движение точно выражает очередной ход сюжета баллады:
«…Гитара металась!
В ней слышалось то нетерпенье,
То шелест волны,
То орлиный рассерженный клекот,
Зубов холодок и дрожанье плечей оголенных.
Задумчивый свет и начало тяжелого ритма…
Гитара смеялась!»
Артист садится на стул посреди сцены – он ещё не раз обыграет его в других своих песнях. Устало. Опустошенно…
Завершилась первая четверть концерта, его первый песенный блок. Раскланявшись, певец исчез за кулисами. В оркестре зазвучали весёлые мелодии. , прожектора крест-накрест стали пересекать сцену разноцветными лучами…
И вот Леонтьев снова на эстраде – теперь уже в свободной белой блузе, серебристых в обтяжку бриджах и белых сапожках. Во второй песенный блок вошли польские, болгарские, немецкие песни. Среди них и знаменитая «Колоровы ярмарки» из репертуара Марыли Родович. Оркестр весело марширует поперек сцены, из-за кулис вылетают огромные воздушные шары – музыканты посылают их в зал, слушатели отбивают на эстраду, и эта игра сопровождает всю песню. Ярмарочно-цирковая пестрота, царство веселой неразберихи…
Третий блок – песни самые разные по настроению: веселые, задумчивые, трагические. Особенно сильно звучит баллада – монолог Юрия Саульского «Молитва клоуна» из музыки к пьесе Г. Бёлла «Глазами клоуна». Злой, опустошенный, уставший человек, постепенно распрямляясь, словно становясь выше ростом, шлет свои проклятия богу, создавшему мир угнетения и насилия. Леонтьев достигает здесь подлинно трагической силы!
И опять – беззаботная, легкая, мелькающая музыка, танцевальные мелодии. Трагедия ушла, начинается дискокарнавал: ритмы, прожектора, гирлянды цветных подмигивающих лампочек. Артист поет и танцует, используя сложнейшие пируэты и па, позволяя себе на «бис» пройтись по сцене колесом, словно заправский гимнаст.
Концерт окончен. Пора, как говорится, обдумывать впечатления. Они однозначны: яркая индивидуальность, новое явление на советской сцене. Конечно же, Тухманов трижды прав: записи для этого артиста не показательны, даже совсем пока ещё невыгодны. Его концерт – это в прямом смысле слова шоу, то есть зрелище, - кабаре, мюзик-холл. Спектакль, где музыка и визуальная, зримая сторона выступают на равных. Леонтьева, безусловно, надо видеть. Голос, вокал – сильное средство выражения его чувств и мыслей, но не единственное, оно усилено танцем и движением.
И ещё одно наблюдение: этот артист обладает незаурядной силой личного воздействия. Силой, которая кажется магической, колдовской. Он захватывает, завораживает, электризует зал, заставляет его мыслить на одной волне с собой. Такое по плечу лишь сильной, волевой личности. Он словно аккумулирует запасы энергии огромной мощи и в нужный момент разряжает их, потрясая слушателя. Направляет с эстрады в аудиторию некое силовое поле – поток страстей и эмоций, заставляющий слушателей соучаствовать в игре, предложенной исполнителем.
Родился Валерий в селе Усть-Уса Коми АССР. Детство прошло в Архангельской области – отец был зоотехником, и семья часто переезжала с места на место. Начал петь в школьном хоре, участвовал в школьном драмкружке, рисовал, танцевал. После десятого класса (семья к этому времени переехала в город Юрьевец Ивановской области) решил попробовать свои силы в драматическом искусстве. Мечтал о профессии актёра. Приехал в Москву поступать в ГИТИС. Но, увидев столичных абитуриентов, важных, уверенных в себе, да ещё поняв, что говорит он с волжским акцентом, окая, так смутился, что забрал документы и вернулся домой, в Юрьевец. Поступил рабочим на кирпичный завод. В памяти Валерия до сих пор живы «производственные картинки»: бесконечная ползущая глиняная четырехугольная змея, которую проволочный нож режет на аккуратные кирпичики. Потом перешел на прядильную фабрику, стал «тесемщиком-смазочником» - расхаживал по цеху, залезая под работающие станки, смазывал, спринцевал их. Проработал на фабрике два года. Параллельно занимался во всевозможных самодеятельных коллективах, запевал в хоре ветеранов, пел с эстрадным оркестром. Потом перебрался в Воркуту, к сестре, поступил на вечернее отделение Горного института. Днем работал учеником чертежника, по вечерам учился. И снова по привычке записался сразу в несколько самодеятельных составов. Во Дворце культуры шахтеров и строителей были неплохие любительские коллективы – эстрадный оркестр, народный ансамбль песни и танца, театр. Леонтьев ухватился за всё это, репетировал самозабвенно, почти ежедневно, однако вскоре стал выбиваться из сил, уставать. Суток не хватало, просыпал свои остановки в автобусах.
В конце концов пришлось на что-то решаться, выбирая между театром (успешно выступал в пьесе А. Макаенка «Затюканный апостол»), хором, эстрадным оркестром. В это время республиканская филармония в Сыктывкаре объявила конкурс среди молодых самодеятельных музыкантов, с тем чтобы отобрать наиболее способных, отправить их в Москву, во Всесоюзную мастерскую эстрадного искусства. Среди многих решил попытать счастья и Леонтьев. Бросил работу, учебу. Одни друзья говорили – молодец, правильно, другие рекомендовали быть поосторожнее: неизвестно еще, что там, в Москве, получится, а здесь, в Воркуте, хорошие любительские группы, почёт, заграничные командировки. Тем не менее Валерий рискнул – прослушался, попал в число пятнадцати отобранных кандидатов и поехал в столицу. В мастерской эстрадного искусства занимался в классе Г.П. Виноградова. Главное, что дала ему Москва – это расширение горизонта: многое узнал, «потерся» в эстрадных кругах, побывал на концертах тогдашних звезд – Дина Рида, Радмилы Караклаич, Яноша Кооша. Пытался попасть на выступление Эдиты Пьехи, однако билетов так и не достал. В мастерской вообще приобретали что-то лишь те, кто очень этого хотел. Валерий был одним из самых активных и видимо, весьма надоел своим концертмейстерам: давайте разучим вот эту песню, а что, если попробовать вот ту… Так прошел год. В конце концов в Москву приехал директор филармонии посмотреть, чему же молодежь научилась (все они уже были приняты на работу и в столицу отправлены как бы на повышение квалификации). Посмотрел, послушал, да и забрал всех обратно в Сыктывкар. Валерию дали небольшой аккомпанирующий состав – «Эхо» (группа эта работает с артистом до сегодняшнего дня) - и отправили с концертами по республике. Начались «художественные будни», самостоятельная жизнь…
- Хорошо помню свой первый концерт. Было это в селе Лойма. Клуб в помещении старой церкви, - вспоминает Леонтьев. – Приехали мы туда, а в клубе холодно. Ни петь, ни играть. Ну что ж – натащили дров, сбили с них снег, затопили печь, а вьюшку по неопытности не догадались открыть. Чуть не угорели…
Долго ещё ездили по деревням и селам, рабочим поселкам и районным центрам Коми АССР. Потом ансамбль стал гастролировать по городам, выезжать в соседние области, на комсомольские стройки Урала и Сибири. Побывал на строительстве КамАЗа, Саяно-Шушенской ГЭС, в Усть-Илиме, на БАМе. Ездил подолгу, трассы оказывались многомесячными. Так прошли годы с 1974-го по 1978-й. Время, которое как раз и явилось для молодого артиста периодом учебы: выковывались представления о музыке, песне, режиссуре, сценическом костюме. Своего, написанного специально для Леонтьева материала, естественно, не было. Он пел вещи Тухманова, Зацепина, Паулса – то, что звучало по радио и по телевидению, что выпускала на пластинках «Мелодия». Шуба была с чужого плеча – Валерий лишь пытался ее на себя как-то перекроить. Просто копировать чужую манеру не мог и не хотел.
Важно было и определить наконец, что в музыке было для него близким, органичным, своим. Одного направления не придерживался – пел и обычные танцевальные мелодии, и песни с интересными текстами, с сюжетом. Исполнял баллады с красивыми мелодиями, - как говорит сам Леонтьев, «песни, где всё во имя мелодии и во благо ей».
В 1979 году ему исполнилось тридцать лет. Пора было задуматься: а что успел сделать, какую пользу принес, чего добился? Мысли были довольно грустными: знала его только периферия. К тому же сложились плохие отношения с руководством концертной организации, и вскоре Леонтьев вместе со своим составом перешел в Горьковскую филармонию. Оказался при этом без приличной аппаратуры. Однако удача с неудачей, видимо, ходят под руку. Руководство Горьковской филармонии сообщило певцу, что в августе в Ялте состоится I Всесоюзный конкурс на лучшее исполнение песен стран социалистического содружества и что он будет туда командирован. Услышав это, Леонтьев, по его словам, чуть не подпрыгнул от радости. Конкурс был как нельзя более подходящим для него – ведь на песнях Лили Ивановой, Карела Гота, Яноша Кооша, польских певцов он рос и формировался. Многие из них входили в его программу. Подошел срок – Леонтьев выехал в Ялту. По условиям конкурса надо было исполнить три песни стран социалистического содружества, три советские и одну новую. К этому времени вышла пластинка-миньон Давида Тухманова с песней «Памяти гитариста». Она и стала главным номером конкурсного репертуара Леонтьева. Добавил две польские, одну болгарскую и – неожиданно для себя (в Крым отправился не столько себя показать, сколько людей посмотреть) – стал обладателем первой премии.
После этого записал для «Мелодии» свой первый миньон. Опыта для работы над диском ещё не было, материал был отобран бледный. Первая встреча с грамзаписью оказалась неудачной.
Попытался предложить свои услуги телевидению. Встретился с музыкальной редакцией, исполнил для них несколько номеров. Редактор порекомендовал обратиться за новыми песнями к Давиду Тухманову, устроил их встречу.
- В самом страшном сне я не мог себе представить, что буду петь под аккомпанемент самого Тухманова у него дома, - вспоминает Леонтьев. – Исполнил балладу «Памяти гитариста», зацепинскую «Ищу тебя». Тухманов, обратив внимание на мои пританцовывания, попросил показать, что я и тут умею. Поставил на проигрыватель пластинку – диск группы «Ирапшн», и я под эту музыку стал импровизировать какие-то танцевальные па…
Так началось творческое содружество композитора и певца. Первая вещь, предложенная Тухмановым Леонтьеву, была на популярную «дискотечную» тему – «Кружатся диски». Материал певцу понравился, ритмическая структура песни давала возможность ощутить радость движения, свободу мимики, жеста. Работа над песней продолжалась долго – сначала дома, за роялем, потом в студии, во время записи. Была поставлена определенная цель – создать жизнерадостную молодежную песню, вещь с ярким, оптимистическим настроением. Точно расставить все смысловые акценты.
Затем песня была записана и сведена. Под эту фонограмму телевидение отсняло сюжет (видеоклип) для новогоднего «Голубого огонька». Всем – исполнителю, композитору, редакторам – работа понравилась. Однако накануне Нового года этот телесюжет был из передачи вырезан: не пришелся по вкусу тогдашнему руководству телевидения. Сколько раз ещё придется потом артисту испытывать горечь запретов, «вырезаний» и «выбрасываний» из всевозможных эстрадных программ!..
Тем временем работа с Тухмановым продолжалась. Вслед за «Дисками» были записаны «Ненаглядная сторона» (стихи С. Романова), «Там в сентябре» (стихи Л. Дербенева). Последняя из них – романтическая песня-мечта. Трудная, интонационно-широкая по диапазону, с большим количеством скачков в мелодии, сложных переходов. Валерий записывал её дабл-трэком, то есть в унисон с самим собой, как бы уплотняя, утолщая мелодическую ткань.
Летом 1980 года он едет в Болгарию, на международный конкурс песни «Золотой Орфей». По условиям конкурса требовалось исполнить две песни: одну – болгарскую, другую – своей страны. Болгарская («Вечность» Митко Штерева и Штефана Банкова) была готова уже давно. Красивая, экспрессивная баллада, неплохо «наработанная» Леонтьевым в концертах. Что взять из советских? Обратился к Тухманову, попросив композитора сделать новую аранжировку старого «Танцевального часа на солнце». Тухманова идея эта привлекла, взялся писать оркестровку, а сделал в итоге почти совсем другую, новую песню. Леонтьев сразу же включил её в концерт, чтобы как можно шире проверить на слушателе, найти смысловые и интонационные точки опоры. Песня долго не получалась, не были даже слышны слова – приходили записки с вопросами: «Что это такое – ваши «протубанцы» или «дуберанцы»? Наконец появилась уверенность, что вещь выстроена эмоционально и логически точно, был продуман ее пантомимный ряд…
Выступление Леонтьева на фестивале транслировалось по телевидению в несколько десятков стран мира. А телесюжет с «Танцевальным часом на солнце» стал его премьерой и на экране отечественного ЦТ.
Леонтьев был удостоен первой премии.
Период, последовавший за удачным выступлением на «Золотом Орфее», принес Леонтьеву широкую популярность. Он много звучит по радио, телевидение, хотя и осторожно, такжк включает его в свои эстрадные программы. Наряду с Яаком Йоалой и Юрием Антоновым он становится одним из любимцев публики тех лет. Звездой. Его «театр песни», вольная, рискованная манера исполнения, сочетающая элементы эстетики кабаре, цирка и одновременно психологически углубленной баллады, приобретает миллионы сторонников. Однако наряду с поклонниками появляются и недоброжелатели, отвергающие предлагаемую им модель. Это люди консервативных вкусов, с трудом воспринимающие все новое на эстраде. Критике подвергается в первую очередь сценический образ певца. Журналисты иронизируют над прической и костюмами Леонтьева; телевидение не знает, что делать с его пластикой, - видеосюжеты с новыми песнями регулярно исключаются из программ либо переснимаются в «облегченном» варианте. Были запланированы, но в последний момент отменены гастроли по ФРГ и Скандинавии.
В этот период артист о многом задумывается, пытается осмыслить свою работу, найти основные принципы, по которым он строит свой концерт.
Вот несколько отрывков из интервью, взятого мною у Леонтьева осенью 1981 года.
-Как Вы пришли к Вашей манере, включающей жест, пантомиму, танец?
- Я мог бы Вам ответить: потому что понял, что в наше время недостаточно только петь, что надо подключать другие средства художественного арсенала – танцы, элементы цирка, спорта и т.д. Но если говорить откровенно, то – не знаю. Интуитивно. Мне этого хотелось. Таково моё ощущение песен. Для меня, когда я пою, очень важным является то, что можно было бы назвать ощущением полета. Всегда наступает такой момент, когда приходит душевный подъём, полное освобождение. И тогда музыка рождает или вплотную подводит к таким дополнительным средствам выразительности, как мимика и танец. Тогда всё движется, несется, стремительно летит как бы помимо меня самого, вне моего контроля.
- Но ведь у Вас есть и отрепетированные сцены. Ряд эпизодов Вы исполняете совершенно синхронно с сопровождающим Вас танцевальным трио…
- Да, в некоторых песнях моего дискоблока есть режиссерски поставленные куски (кстати, все танцы придумал я сам). Но даже и в этих песнях промежутки между сделанными сценами я импровизирую.
- А как Вы формируете сам танцевальный рисунок?
- Всё зависит от песни. В простых вещах стиля диско я как бы танцую ритм. В более сложных по образу ищу какой-то условный сюжет. Есть баллады, в которых я почти выключаю движение – там достаточен «театр лица» … Плюс несложные сценические аксессуары: стул, шляпа. У меня были попытки работать и с воображаемыми предметами, - например, песню «Памяти гитариста» я одно время пробовал исполнять с воображаемым стулом. Но выходило громоздко, и в конце концов на сцене появился реальный стул. Пытался выступать и с радиомикрофоном – выгода огромная, не надо путаться в шнуре, наступать на него, переступать и т.д. К сожалению, качественных радиомикрофонов пока почти нет (хотя именно за ними, конечно, будущее). Пришлось применять обычный микрофон со шнуром. Зато стремлюсь обыграть и микрофон, и шнур. Микрофон может стать цветком, гранатой, рычагом, мячиком. Шнур – бичом, змеей, канатом, с ним постоянно борешься, он – живой. Это ощущение сопротивления вещи необходимо.
- Вы несколько раз за вечер меняете костюм…
- Костюм вообще важный элемент программы. Он зависит от музыки, но иногда и порождает её. Строгая тройка заставляет собраться, петь более сдержанно, четко. Фантазийные костюмы дают всю мыслимую свободу жеста, движения, прыжка. Иной раз, придумав себе новый костюм, я под него выбираю песню.
- Ваши трудности сегодня?
- Надо сменить часть репертуара, требуются новые песни. Песня – товар скоропортящийся, его нужно много, нужны запасы. Я по-прежнему тесно связан с Тухмановым, хотя понимаю, что он не может без конца работать на одного меня, отдавая мне все свои новинки. Пробую войти в контакт с Шаинским, Саульским. Я пою «Молитву клоуна», которую взял со старой пластинки Елены Камбуровой. Мне вообще нравятся песни Саульского – их эмоциональное половодье, разлив мелодий, человечность. Но конечно, я сотрудничаю и с молодыми авторами…
Год 1982-й. …Для Леонтьева он был памятен несколькими событиями – участием во Всесоюзном фестивале популярной музыки в Ереване, еще одной сменой филармонии (перешёл в Ворошиловградскую), подготовкой первой тематической программы («Я просто певец»), началом учебы в Ленинградском институте культуры, знакомством с Раймондом Паулсом. Последнее можно назвать предварительным, гораздо более плотное сотрудничество произойдет у них в 1984-1986 годах, а пока это лишь первый контакт: для творческого вечера Паулса в московском Театре эстрады («У нас в гостях маэстро») Леонтьев выучил песню «Если ты уйдешь» на стихи А. Дементьева. Выучил утром, прямо в гостиничном номере, где остановился композитор. Вечером певец «случайно» оказался в зале, и ведущая, Алла Пугачева, столь же «случайно» обнаружив его, пригласила на сцену…
Ереванский фестиваль был задуман организаторами с размахом. Проводился он на велотреке, под открытым небом, при многотысячной аудитории. В концертах принимали участие большинство популярных эстрадных музыкантов тех лет – солисты и вокально - инструментальные ансамбли. Леонтьев завоевал два приза – приз публики и приз газеты «Вечерний Ереван». В зале было много зарубежных корреспондентов. Журнал «Тайм» позже писал со свойственной американцам хлесткостью: «Леонтьев – это вокал Мика Джаггера и хореография Барышникова». Валерий пел в Ереване свою обычную программу. Однако удовлетворение ею прошло, теперь она казалась слишком разнородной, пестрой. Возник замысел сквозной программы – с единой мыслью, со сверхзадачей, когда каждая следующая песня продолжает предыдущую. Как этого добиться, артист пока не знал: законы режиссуры, формы, теория эстрадного дела ему были ему неведомы, работал он интуитивно. В новой программе 1982 года «Я просто певец» постановка которой была осуществлена на сцене зала «Октябрьский», ведущей темой стала жизнь артиста, его отношения со зрительным залом, со сценой, со своей профессией.
Собственно, новых песен в ней было не так уж и много, среди них заглавная «Я просто певец», написанная молодым ленинградским автором Лорой Квинт. Зато удалось логично выстроить старый репертуар – в основном тухмановские работы: «Памяти гитариста», «Памяти поэта», «Танцевальный час на солнце», «Там в сентябре», «Ненаглядная сторона». Второй, как бы дополняющей темой программы стала жизнь цирка: «Куда уехал цирк?» (В. Быстрякова, В. Левина), «Разноцветные ярмарки», «Зеркало и шут».
Программность, наличие сверхзадачи стали принципом, ао которому строились и все последующие концертные циклы Леонтьева. Так, в «Бегу по жизни» (1983) прозвучали песни, вошедшие в политический фильм – памфлет «Последний довод королей». Их автор – киевский композитор Владимир Быстряков (стихи Наума Олева). Третья программа – «Наедине со всеми» (1985) – это уже паулсовский период, хотя заглавная песня принадлежала Владимиру Шаинскому (стихи А.Поперечного). «Наедине со всеми» - это концерт – исповедь, разговор по душам с аудиторией, причем большая часть песен – жизнерадостные, шутливые. Внешне программа носила близкий Леонтьеву мюзик-холльный характер: было привлечено много исполнителей, балет, а для морского блока – группа сигнальщиков из Кронштадта. Среди песен были такие шлягеры года, как «Вероока» (Р. Паулс – И. Резник), «Затмение сердца» (Р. Паулс – А. Вознесенский), «Зеленый свет» (Р. Паулс – Н. Зиновьев), «Поющий мим» (Р.Паулс – И.Резник) и другие, написанные специально в расчете на исполнительские возможности и сценический образ Леонтьева.
Тема «Звездного сюжета» (1986) была определена привязанностью артиста ко всему неземному – космосу, фантастике, проблемам будущего нашей цивилизации, протесту против перспективы «звездных» войн. Название циклу дала песня Татьяны Сашко.
Пятая программа артиста, «Признание» (1987), - это его дипломный спектакль. Обращение к ленинградцам – зрителям, друзьям, коллегам. Своеобразное объяснение им в любви. Среди участников концерта было несколько известных ленинградских артистов – Михаил Боярский, Александр Розенбаум, танцевальная группа «Маски». Это театрализованное представление для молодежи, в котром Леонтьев показывал, чему он научился в институте как режиссер эстрадных представлений…
Институт Культуры для Леонтьева – закономерная случайность.
После «Золотого Орфея», по словам артиста, ему очень хотелось показать себя, подтвердить, что первая премия заработана честно. Он стал так выкладываться на концертах, с таким напряжением, форсировкой звука петь, что быстро заработал себе опухоль на связке. На какое-то время голос вообще пропал. Леонтьев обратился в Ленинградский институт уха, горла, носа, к профессору Ральфу Исааковичу Райкину, брату знаменитого Аркадия Райкина, который знал, любил и не первый год лечил эстрадных артистов. Пока шли процедуры, Валерий задумался о будущем. А что если с пением покончено? Нужна, наверное, какая-то другая профессия, связанная со сценой, художественной средой… К тому же вообще неплохо было бы получить высшее образование – в Воркуте дошел до третьего курса Горного института, но бросил учебу. Леонтьев сдает экзамены на режиссерский факультет Института культуры. Становится заочником. Правда, вскоре выясняется, что с голосом у него все в порядке: фиброму профессор Райкин успешно удалил. А институт остался. В течении пяти лет шли занятия. Никаких поблажек Валерий не имел. Приезжал на все зачеты и экзамены, выстраивая гастрольный график таким образом, чтобы образовывались соответствующие «окна». Учился хорошо.
Дипломная работа – «Признание» - была оценена государственной комиссией на «отлично».
В 1984 году начинается новая заметная полоса в творчестве артиста – сотрудничество с Раймондом Паулсом. Начало этому содружеству положил, как и в 1982 году, авторский концерт Паулса в ленинградском зале «Октябрьский». В первом отделении прозвучал одноактный мюзикл «Звезда Керри», с Маргаритой Тереховой и балетом Бориса Эйфмана. Во второе вошли десять новых песен Паулса в исполнении Леонтьева. Этот материал несколько позже составил пластинку «Диалог» и получасовой видеофильм «Я с тобой не прощаюсь». Большинство песен этой серии немедленно стали хитами, то есть популярными мелодиями, бывшими у всех на слуху.
Пластинка получила название по одноименной песне на стихи Н. Зиновьева, однако в виду имелся, разумеется, вполне конкретный диалог певца и композитора. Они действительно обрели, взаимно дополнили друг друга. Оба тяготели к кабаре, эффектной сценической подаче каждого номера, щедрому мелодизму, бытовой узнаваемости. Десять паулсовских шансонов представили хорошо знакомые слушателям лирические сюжеты со знаковой системой повседневных реалий. При этом в ритмико – интонационной сфере песен легко различались приемы входившей в моду итальянской песни, что опять-таки совершенно не противоречило леонтьевской манере.
Открывает альбом «Вероока» - веселая песенка об игрушечном персонаже, помогающем герою коротать грусные минуты:
«Он сидит со мною рядом
На окошке
И наигрывает на губной гармошке…»
Шуточный шлягер, простая эстрадная песенка. Ничего проблемного, глубокого, значительного. Отчего же тогда голос певца трагически напряжен? Этот вопрос можно задать Леонтьеву ещё не один раз…
«Затмение сердца» (Стихи А. Вознесенского). Сентиментальная, чувствительная мелодия. Банальный сюжет: конфликт между влюбленными. В запеве голос спокоен и сдержан. Постепенно интонации раскаляются, становятся патетическими, страстными:
«Затмение солнца темнит небосвод…
Затмение сердца прошло и пройдет…»
Обычные лирические переживания. Однако артист выделяет в песне что-то такое, что позволяет укрупнить тему, сделать ее особо интимной, личностной, теплой, человечной, близкой и понятной каждому.
Следующие два номера («Я с тобой не прощаюсь» и «Годы странствий» на стихи И. Резника) явно стилизованы под «итальяно»: краткий, почти условный запев, ведущий к мелодически сочному, ликующему припеву, наполненному знакомыми оборотами римских или неаполитанских канцон. «Итальянистость» уже впрямую обыгрывается в следующей песне – «Человеке – магнитофоне» на стихи А. Вознесенского:
«Каждым утром рано
У своих ворот
Местный Челентано
Песенку поет…»
Городской пейзаж – картинка не без неореалистических подробностей:
«Не скопил он денег
На магнитофон.
Сам, как фонотека
Полон песен он…»
И для Паулса и для Леонтьева стилизация итальянских мелодий – это знак: связь с городом, уличной жизнью, бедными кварталами, судьбами простых людей. Нечто чаплиновское: тема маленького человека – не героя, не звезды… Эта тема ощутима в некоторых других песнях «Диалога»: «Поющий мим», «Полюбите пианиста» (стихи А. Вознесенского).
Наиболее известной стала, однако, самая последняя песня пластинки – «Зеленый свет». В ней как бы два слоя. Первый – внешний, сюжетный. Хорошо знакомый бег трусцой, бег – спасение от всех недугов цивилизации, болезней, стрессов и перегрузок больших городов.
В своих концертных выступлениях Леонтьев этот сюжет, кстати говоря, реализует, делая пробежку по залу вместе с иллюстрирующей песню танцевальной группой (в многотысячном московском спорткомплексе «Олимпийский» пробегаемое расстояние достигало полукилометра). Второй смысловой слой – игра в абсурд: бег как суета, в которой мы погрязли.:
«Все бегут, бегут, бегут, бегут,
Бегут, бегут, бегут, бегут…»
А он им светит…»
Это ироническое (но и одновременно грустное, сочувствующее) звучание «Зеленого света» осталось не считанным, не понятым многими критиками, воспринявшими песню лишь как веселую мелодию. На самом деле здесь, конечно же, одна из типично леонтьевских драматических коллизий – смещенный, перевернутый мир, в котором герою одиноко и неприютно…
Пластинка «Диалог» имела широкий отклик и была издана большим тиражом.
Вслед за ней появились и другие: альбом «Дискоклуб 16», составленный из песен в танцевальных ритмах, записанных в разное время (туда вошли, между прочим, «Кабаре» Паулса; «Продавец цветов», одна из первых авторских композиций Леонтьева, написанная совместно с Ю. Варумом, «Сеньорита Грация» П. Теодоровича); пластинка песен ленинградского композитора Ю. Морозова («Премьера») и наконец, пятый альбом в леонтьевской дискографии и вторая его совместная работа с Р.Паулсом – «Бархатный сезон».
Заглавие это не случайное.
Открывает диск «Гиподинамия» - шлягер, без которого не обходился в тот период ни один дискотечный вечер. Сюжетно – возвращение к «Зеленому свету», ироническое обыгрывание «борьбы за сосуды».
«Гиподинамия…это минимум движения,
Это всех надежд крушенье
(Наших сокращенье) лет…»
Компьютерно – синтезаторное сопровождение (все аранжировки диска принадлежат Ю. Варуму) звучит холодно и бесстрастно. Машинный пульс не знает перебоев. В музыкальный звукопоток ловко вмонтированы шумы – голоса, смех, гул толпы. На фоне этих «ритмов большого города» - звонкий голос певца, то веселый, беззаботный, то язвительный, ернический, то тревожный. Вроде бы это все шутка, легкая ирония. Но есть тут что-то болезненное, гротескно – деформированное, даже страшноватое. И эту страшноватость придает «Гиподинамии» вокал: градус его напряжения не соответствует легковесности песенки…
Вторая вещь, «Притяжение любви», стилистически, да и сюжетно как бы продолжает первую. Любовь робота:
«Вот и сердце нашлось
Где-то в схеме моей
Посреди проводов
И магнитных полей!»
Звучание гитарно – синтезаторного сопровождения, как и в «Гиподинамии», холодно – механическое, машинное. Эту машинность обыгрывает и певец, выступающий в двух ипостасях: как звуковой автомат и как живое, страдающее существо:
«Я не умею больше жить
Без притяжения любви…»
Легко догадаться, что речь идет вовсе не о роботе. Это он, человек – без любви. Лик электронного уродца скрывает обычное тоскующее человеческое лицо…
Две первые композиции стоят особняком, образуя микроцикл внутри пластинки. Стилистически это электропоп – манера, никогда Леонтьевым прежде не применявшаяся.
С третьей песни «лицо» пластинки резко меняется. Начинается второй песенный круг. «Три минуты» (стихи Н. Зиновьева). Резкое переключение в темпе. Задумчивая баллада: «Только три минуты длится песня. Вспыхнет и погаснет, как звезда…» Любимая артистом широкая мелодическая линия, дающая возможность показать эмоциональный напор, даже некоторый душевный надлом, стать в чувствительную позу. В песне сплавлены элементы танго, цыганские интонации. Возникает и знойное соло скрипки. «Три минуты – это много или мало, чтобы все сказать и все начать сначала…» Почти цитата из эстрады тридцатых годов времен «Утомленного солнца» и «В парке Чаир».
И наконец, гвоздь программы – «Бархатный сезон». Песня демонстративно мелодичная, сочная, как спелый виноград. Сочетающая солнечность неаполитанских канцон, сладких напевов Карела Гота, отечественных лирических романсов. Песня с узнаваемой ситуацией:
«Август – сентябрь,
Молчит телефон.
Август – сентябрь
Бархатный сезон!»»
Исполняя эти нехитрые фразы, певец доходи до экстаза, это уже не просто пение, но страстный призыв, мольба. Откуда же все эти стоны, крики, почти рыдания? Откуда «оперность»? Неужели пустенький, в сущности, телефонно – отпускной сюжет способен подвигнуть на такое? Вряд ли. Но эмоциональная взвинченность придает песне какой-то иной, не заложенный в ней изначально смысл…
Следующая вещь продолжает наметившуюся пляжно – курортную линию «В стиле шторма». Музыкально – не первая уже в тандеме Паулс – Леонтьев стилизация «под итальяно». В тексте Н. Зиновьева такая же сознательная стилизация «под пляжный» стиль:
«Вновь в море под луной
Мы на корабле
В поздний час танцуем,
Пой, ветер, за кормой!
Утонуть в мечте
Мы сейчас рискуем…»
Широкая мелодическая линия, приятный инструментальный фон (синтезаторы звучат приторно и знойно). Музыка мечты о счастье и любви. Множество ассоциаций с тридцатыми годами, незабвенными фокстротами и танго, под которые танцевали наши родителя. Так и видятся белые пиджаки, белые брюки, пальмы в кадках…
Финал пластинки слегка отходит от устоявшейся в ней ретро стилистики. «Маяк» - реггей, «Комета Галлея» - легкий рок. Здесь хорошо знакомый, дискотечный, молодежный Леонтьев. Важны не слова песен, а ритм, полетность: завертеть, закрутить слушателя в пестром карнавале, в окружении таких же, как и он сам, молодых, веселых лиц.
«Бархатный сезон» подытоживает поиск артиста (и точно работающего на него композитора) 1985-1986 годов. Пластинка намечает два песенных «среза»: первый – иронически – машинный и второй – сентиментально – «пляжный», с акцентами, идущими от модной в 80 годах итальянской эстрады, и китчевым антуражем. Второй срез (кстати, модное направление в мировой эстрадной песне) балансирует на опасной грани. Еще миллиметр – и пойдет огрубление, дурной вкус. Спасает мастерская аранжировка и талант артиста, точно ощущающего мели моветона, эмоционально вуалирующего их. Певец одновременно и расчетлив, и самозабвенен. Он умеет убаюкать, заворожить и в то же время взрывается неистовыми сполохами, озаряет мелодическими сполохами.
В это же самое время – 1985 и 1986 годы – Леонтьев принимает активное участие в двух крупных международных акциях, проходивших в Москве: XII Всемирном фестивале молодежи и «Играх доброй воли». Он среди действующих лиц в красочных карнавальных шествиях открытия и закрытия этих фестивалей; выступает в сборных и сольных концертах.
Выступления Леонтьева на фестивале молодежи были отмечены высокой наградой – премией Ленинского комсомола.
Год 1987-й. Артист впервые работает над большой формой – эстрадно – песенной оперой. Он рассказывает:
- У меня давно уже была какая-то смутная идея музыкально – драматического спектакля со сквозным сюжетом. Представлялась она мне сначала в виде мюзикла по мотивам киплиновского «Маугли». Но время шло, вот уже тридцать восемь, тридцать девять… Я понял, что не так уж юн для Маугли… К тому же захотелось какой-то другой, лирико – философской темы. И тогда ленинградский композитор Лоа Квинт предложила оперу на сюжет о Джордано Бруно. Используя поэтический текст Владимира Кострова, она выстроила масштабное произведение с острой, драматической музыкой. В ней и симфонические эпизоды, и рок, и баллады, и лирика, и шутовство. Сама тема пленила меня: Возрождение, романтические страсти эпохи. Но главное в другом – в человеческом, гражданском подвиге ученого. Заявить о множественности миров, о том, что мы не одиноки во Вселенной – ведь это поступок.
Там много других персонажей – друзья Джордано, его враги, инквизиция, монах, знатные вельможи, возлюбленная Моргана. У меня в опере три роли – заглавная, роль Шута и роль Сатаны, появляющегося во время черной мессы.
Эта опера предполагается к исполнению во время гастролей, но конечно, для такой работы артистов нужного класса не собрать. И поэтому в спектакле буду петь я один, а многое будет звучать в виде записей. Так, партию Морганы записала Лариса Долина. Зрительный ряд будет представлен балетными танцорами. С кажем, балерина танцует, а в это время звучит фонограмма Долиной. Такой метод позволит сравнительно легко прокатывать спектакль.
Премьера его состоялась в Государственном концертном зале «Россия» в июле 1988 года. Успех спектакля превзошел все ожидания…
Движение – по-прежнему стихия Леонтьева. Но чистого танца стало в последние годы меньше, он появляется лишь там, где обусловлен содержанием песни (скажем в паулсовском «Кабаре»). Жест стал более скупым, многое как бы ушло внутрь, психологизировалось. Искрометных фейерверков поубавилось. Артист соглашается:
- Да, раньше было больше мускульной радости, сейчас излишняя мишура, калейдоскопичность ушли. Танца ради танца нет. Хотя там, где нужно, танцую с удовольствием. Ясно ощущаю тягу публики к задушевным, лирическим мелодиям, к драматическим балладам, таким, как «Бал» (З. Краевски – М. Герцман), «Белая ворона» (Г. Татарченко – Ю.Рыбчинский), к незатейливым песенкам под баян («Исчезли солнечные дни» на стихи Р.Гамзатова) Конечно, в таких песнях движение сведено к необходимому минимуму.
- А Ваши костюмы? Лет пять-семь назад у Вас преобладали «фантазийные блузы» …
- Сегодня я одеваюсь по-другому. Скромнее. Ушел стиль диско, а с ним и упомянутые блузы. Сейчас господствует «новая волна», спортивная мода: большие пиджаки, укороченные брюки, игольчатая прическа. Мне кажется, всеми этими атрибутами я как бы отдаляю себя от образа человека «правильного», хорошо одетого и благовоспитанного. Такого образа я боюсь, я не хочу его. Мой герой иной – клоун, шут, денди, чаплиновский маленький человек, робот, пародийный «космический пришелец», наконец кавалер XVIII века в камзоле и при шпаге. Но под каждой из этих масок – человек. Глубоко чувствующий, страдающий и предельно искренний.
Конечно, наряду с костюмом ярким, некаждодневным я использую и традиционную «тройку». Она естественна и необходима в авторских вечерах, в обстановке Колонного зала или концертного зала «Россия». А в общем, дышать на эстраде стало легче. И в смысле костюма также. Я рад, что сейчас мне не надо ни под кого подстраиваться, что я могу одеваться так, как считаю нужным...
Леонтьев теперь не только поет, но и размышляет в телепрограммах ( «Музыкальный ринг»), пишет статьи. В одной из них, «Поиск не запланирован» (Сов.культура, 1986, 26 апр.)
Он говорит: «Эстрада динамична, и многое, что сегодня актуально, перестает быть таким на следующий день. Я, например, не против песен – однодневок. Пусть они тоже будут, только пусть не идут с нами в завтра».
Прошу артиста прокомментировать эту мысль подробней.
- Но ведь так оно и есть на деле. Песня, даже самая лучшая, самая умная, живет год-другой. А не самая лучшая? Мне кажется, что красивая, нарядная песня-бабочка, которую приятно слушать, которая дает нам миг отдыха, наслаждения, вполне соответствует своей функции. Сегодня одна, завтра придет другая. От изменений музыкальной моды никуда не уйти… Я не хочу сказать этим, что содержание песен должно ограничиваться пустяками, преходящими мимолетностями. Я люблю красивые мелодии, стремлюсь создать в программе яркое шоу. Но именно сейчас мне хочется выйти за пределы собственных рамок. Появилось ощущение, что нужно говорить в песне о чем-то ином, чем прежде. О каких-то проблемах. О болевых точках. На днях мне прочитали стихи, которые могли бы стать основой будущей песни. Они о Доме для престарелых. Есть замысел песни о молодоженах, еще не знающих всех трудностей и тягот своей будущей жизни. Или вот – хочется спеть песню о манекенах, стоящих в витрине магазина. Посмотреть на людей их глазами.
Да, я люблю легкие, веселые песни. Но где-то внутри мне ближе проблемный, трагический материал.
Кто же такой Леонтьев?
Прежде всего – романтик, мечтатель, сказочник. При этом еще чудак, клоун, шут. Если попытаться использовать определение, данное Федерико Феллини в его книге «Делать фильм», то это элегантно-трагический белый клоун (само изящество, грация, гармония, ум, трезвость мысли). Чьим, по Феллини, антиподом является рыжий клоун (шутник, забияка, драчун, хулиган, - у нас на эстраде, видимо, Алла Пугачева).
В большинстве своих работ Валерий Леонтьев добр и человечен. Он обладает тем редким качеством, которое А. Пахмутова, говоря как-то о нем, назвала «трещинкой в сердце». Его искусство – яркое, отчаянное, искреннее."
А. Петров
материал из книги:
"Певцы советской эстрады"
выпуск третий
Москва
"Искусство"
1992
вверх^
к полной версии
понравилось!
в evernote
Это цитата сообщения ALLA555 Оригинальное сообщение
Из сборника статей "Певцы советской эстрады" - Валерий Леонтьев
Недавно с мамой у неё дома разбирали мой книжный архив, где я обнаружила удивительную находку - сборник статей "Певцы советской эстрады", оформленный в виде книги в мягком переплете. В сборник вошли статьи о замечательных артистах: А. Малинине, Т. и С. Никитиных, Л. Долиной, Я. Йоала, Т. Гвердцители, Я. Евдкимове, Т. Синявской, С. Захарове, Л. Вайкуле и т.д., ВИА "Песняры", "Иверия" и многих других. А самое главное, что я увидела - статья о Валерии Леонтьеве. Купила я этот сборник в 1992 году... А сейчас прочитала заново, освежила в памяти, и подумала, что другим тоже было бы интересно ознакомиться с публикацией. Попыталась статью сканировать, но из этой затеи ничего не вышло. Переплет книги на клеевой основе, странички отстают, выпадают... Поэтому отсканировала только обложку, а текст статьи набирала на компьютере... Предлагаю его вашему вниманию:

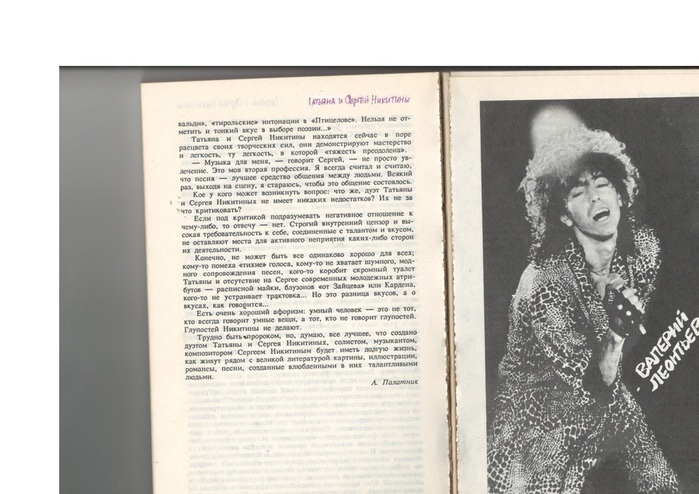
"Этот крошечный телесюжет запомнился миллионам телезрителей. Фестиваль «Золотой Орфей» 1980 года, парад победителей. Высокий, гибкий артист с худым лицом, пронзительным взглядом и копной черных волос исполнял «Танцевальный час на солнце» Давида Тухманова. Это была новая версия песни 1972 года: космический вальс стал в соответствии с новой музыкальной модой космическим диско, а упоминаемый в песне танцевальный круг – дискотечным пятачком. Исполнитель пел резким, чуть носовым звуком с широкой вибрацией. Правда, чудесные строки Семена Кирсанова можно было расслышать не везде, подача текста вообще не была, видимо, главным – настроение создавалось ритмом. При этом певец, одетый в свободную батистовую блузу, постоянно перемещался по сцене в странном, захватывающем танце – резкие жесты рук напоминали то взмахи крыльев, то языки пламени.
Исполнителя звали Валерием Леонтьевым. Совсем новое, незнакомое имя. Первая премия фестиваля. Не всё в вокале было технически совершенным – встречались небрежные фразы, мелкие сбои. Однако в целом молодой артист показал редкую для эстрады тех лет сценическую раскованность; вокал, жестикуляция, движение сосуществовали у него на равных. Наряду с танцевальными па он использовал элементы балета, пантомимы и даже цирковой акробатики. Микрофон также был участником игры – певец легко перебрасывал его из одной руки в другую, жонглировал им, словно мячиком или булавой.
Таки оказалось первое знакомство. Телевизионным.
Через несколько месяцев на радио появились пленки с первыми записями Леонтьева. Большого впечатления на меня лично они не произвели.
… Всё решил разговор с композитором Давидом Тухмановым.
- Нового талантливого певца Леонтьева слышал?
- Слышал. Но ведь ничего особенного. А некоторые приемы распева даже какие-то манерные.
- А на концерте был, видел его «театр песни»?
- Нет, не был, не видел.
- Тогда рано что-то говорить. Завтра в «Олимпийской деревне» его программа. Билеты я достану. Послушай, и посмотри, как он работает.
И вот Большой зал «Олимпийской деревни». Набит до отказа, билеты спрашивают ещё у станции метро «Юго-западная». Оркестр играет вступительное попурри. Ритмично подмигивают лампочки, вмонтированные в помост ударника.
Появляется Леонтьев: светло - коричневый костюм - тройка, узкий пестрый галстук. Поет свои вещи из диско серии. Движения пока скупы. Лишь изредка – резкий акцент рукой. Музыка легка, мелодична, но певец придает ей некую напряженность. Он сжат, как пружина. И этот накал – мысли, песни – умеет передать слушателю. Заразить ею. В инструментальных проигрышах – первые элементы танца. Тело недвижимо, ноги, словно в рапидном замедлении, начинают выписывать первые па. «Песня о чудаке» - на голове шляпа, через плечо шарф. Будто трагический Пьеро: «Смейтесь, ну что ж вы не смеетесь? Ведь это очень смешно!»
«Поэма о гитаристе» Д.Тухманова на стихи Р. Рождественского. Песня – воспоминание, в которой мелодия постепенно оживает жестом. Каждое движение точно выражает очередной ход сюжета баллады:
«…Гитара металась!
В ней слышалось то нетерпенье,
То шелест волны,
То орлиный рассерженный клекот,
Зубов холодок и дрожанье плечей оголенных.
Задумчивый свет и начало тяжелого ритма…
Гитара смеялась!»
Артист садится на стул посреди сцены – он ещё не раз обыграет его в других своих песнях. Устало. Опустошенно…
Завершилась первая четверть концерта, его первый песенный блок. Раскланявшись, певец исчез за кулисами. В оркестре зазвучали весёлые мелодии. , прожектора крест-накрест стали пересекать сцену разноцветными лучами…
И вот Леонтьев снова на эстраде – теперь уже в свободной белой блузе, серебристых в обтяжку бриджах и белых сапожках. Во второй песенный блок вошли польские, болгарские, немецкие песни. Среди них и знаменитая «Колоровы ярмарки» из репертуара Марыли Родович. Оркестр весело марширует поперек сцены, из-за кулис вылетают огромные воздушные шары – музыканты посылают их в зал, слушатели отбивают на эстраду, и эта игра сопровождает всю песню. Ярмарочно-цирковая пестрота, царство веселой неразберихи…
Третий блок – песни самые разные по настроению: веселые, задумчивые, трагические. Особенно сильно звучит баллада – монолог Юрия Саульского «Молитва клоуна» из музыки к пьесе Г. Бёлла «Глазами клоуна». Злой, опустошенный, уставший человек, постепенно распрямляясь, словно становясь выше ростом, шлет свои проклятия богу, создавшему мир угнетения и насилия. Леонтьев достигает здесь подлинно трагической силы!
И опять – беззаботная, легкая, мелькающая музыка, танцевальные мелодии. Трагедия ушла, начинается дискокарнавал: ритмы, прожектора, гирлянды цветных подмигивающих лампочек. Артист поет и танцует, используя сложнейшие пируэты и па, позволяя себе на «бис» пройтись по сцене колесом, словно заправский гимнаст.
Концерт окончен. Пора, как говорится, обдумывать впечатления. Они однозначны: яркая индивидуальность, новое явление на советской сцене. Конечно же, Тухманов трижды прав: записи для этого артиста не показательны, даже совсем пока ещё невыгодны. Его концерт – это в прямом смысле слова шоу, то есть зрелище, - кабаре, мюзик-холл. Спектакль, где музыка и визуальная, зримая сторона выступают на равных. Леонтьева, безусловно, надо видеть. Голос, вокал – сильное средство выражения его чувств и мыслей, но не единственное, оно усилено танцем и движением.
И ещё одно наблюдение: этот артист обладает незаурядной силой личного воздействия. Силой, которая кажется магической, колдовской. Он захватывает, завораживает, электризует зал, заставляет его мыслить на одной волне с собой. Такое по плечу лишь сильной, волевой личности. Он словно аккумулирует запасы энергии огромной мощи и в нужный момент разряжает их, потрясая слушателя. Направляет с эстрады в аудиторию некое силовое поле – поток страстей и эмоций, заставляющий слушателей соучаствовать в игре, предложенной исполнителем.
Родился Валерий в селе Усть-Уса Коми АССР. Детство прошло в Архангельской области – отец был зоотехником, и семья часто переезжала с места на место. Начал петь в школьном хоре, участвовал в школьном драмкружке, рисовал, танцевал. После десятого класса (семья к этому времени переехала в город Юрьевец Ивановской области) решил попробовать свои силы в драматическом искусстве. Мечтал о профессии актёра. Приехал в Москву поступать в ГИТИС. Но, увидев столичных абитуриентов, важных, уверенных в себе, да ещё поняв, что говорит он с волжским акцентом, окая, так смутился, что забрал документы и вернулся домой, в Юрьевец. Поступил рабочим на кирпичный завод. В памяти Валерия до сих пор живы «производственные картинки»: бесконечная ползущая глиняная четырехугольная змея, которую проволочный нож режет на аккуратные кирпичики. Потом перешел на прядильную фабрику, стал «тесемщиком-смазочником» - расхаживал по цеху, залезая под работающие станки, смазывал, спринцевал их. Проработал на фабрике два года. Параллельно занимался во всевозможных самодеятельных коллективах, запевал в хоре ветеранов, пел с эстрадным оркестром. Потом перебрался в Воркуту, к сестре, поступил на вечернее отделение Горного института. Днем работал учеником чертежника, по вечерам учился. И снова по привычке записался сразу в несколько самодеятельных составов. Во Дворце культуры шахтеров и строителей были неплохие любительские коллективы – эстрадный оркестр, народный ансамбль песни и танца, театр. Леонтьев ухватился за всё это, репетировал самозабвенно, почти ежедневно, однако вскоре стал выбиваться из сил, уставать. Суток не хватало, просыпал свои остановки в автобусах.
В конце концов пришлось на что-то решаться, выбирая между театром (успешно выступал в пьесе А. Макаенка «Затюканный апостол»), хором, эстрадным оркестром. В это время республиканская филармония в Сыктывкаре объявила конкурс среди молодых самодеятельных музыкантов, с тем чтобы отобрать наиболее способных, отправить их в Москву, во Всесоюзную мастерскую эстрадного искусства. Среди многих решил попытать счастья и Леонтьев. Бросил работу, учебу. Одни друзья говорили – молодец, правильно, другие рекомендовали быть поосторожнее: неизвестно еще, что там, в Москве, получится, а здесь, в Воркуте, хорошие любительские группы, почёт, заграничные командировки. Тем не менее Валерий рискнул – прослушался, попал в число пятнадцати отобранных кандидатов и поехал в столицу. В мастерской эстрадного искусства занимался в классе Г.П. Виноградова. Главное, что дала ему Москва – это расширение горизонта: многое узнал, «потерся» в эстрадных кругах, побывал на концертах тогдашних звезд – Дина Рида, Радмилы Караклаич, Яноша Кооша. Пытался попасть на выступление Эдиты Пьехи, однако билетов так и не достал. В мастерской вообще приобретали что-то лишь те, кто очень этого хотел. Валерий был одним из самых активных и видимо, весьма надоел своим концертмейстерам: давайте разучим вот эту песню, а что, если попробовать вот ту… Так прошел год. В конце концов в Москву приехал директор филармонии посмотреть, чему же молодежь научилась (все они уже были приняты на работу и в столицу отправлены как бы на повышение квалификации). Посмотрел, послушал, да и забрал всех обратно в Сыктывкар. Валерию дали небольшой аккомпанирующий состав – «Эхо» (группа эта работает с артистом до сегодняшнего дня) - и отправили с концертами по республике. Начались «художественные будни», самостоятельная жизнь…
- Хорошо помню свой первый концерт. Было это в селе Лойма. Клуб в помещении старой церкви, - вспоминает Леонтьев. – Приехали мы туда, а в клубе холодно. Ни петь, ни играть. Ну что ж – натащили дров, сбили с них снег, затопили печь, а вьюшку по неопытности не догадались открыть. Чуть не угорели…
Долго ещё ездили по деревням и селам, рабочим поселкам и районным центрам Коми АССР. Потом ансамбль стал гастролировать по городам, выезжать в соседние области, на комсомольские стройки Урала и Сибири. Побывал на строительстве КамАЗа, Саяно-Шушенской ГЭС, в Усть-Илиме, на БАМе. Ездил подолгу, трассы оказывались многомесячными. Так прошли годы с 1974-го по 1978-й. Время, которое как раз и явилось для молодого артиста периодом учебы: выковывались представления о музыке, песне, режиссуре, сценическом костюме. Своего, написанного специально для Леонтьева материала, естественно, не было. Он пел вещи Тухманова, Зацепина, Паулса – то, что звучало по радио и по телевидению, что выпускала на пластинках «Мелодия». Шуба была с чужого плеча – Валерий лишь пытался ее на себя как-то перекроить. Просто копировать чужую манеру не мог и не хотел.
Важно было и определить наконец, что в музыке было для него близким, органичным, своим. Одного направления не придерживался – пел и обычные танцевальные мелодии, и песни с интересными текстами, с сюжетом. Исполнял баллады с красивыми мелодиями, - как говорит сам Леонтьев, «песни, где всё во имя мелодии и во благо ей».
В 1979 году ему исполнилось тридцать лет. Пора было задуматься: а что успел сделать, какую пользу принес, чего добился? Мысли были довольно грустными: знала его только периферия. К тому же сложились плохие отношения с руководством концертной организации, и вскоре Леонтьев вместе со своим составом перешел в Горьковскую филармонию. Оказался при этом без приличной аппаратуры. Однако удача с неудачей, видимо, ходят под руку. Руководство Горьковской филармонии сообщило певцу, что в августе в Ялте состоится I Всесоюзный конкурс на лучшее исполнение песен стран социалистического содружества и что он будет туда командирован. Услышав это, Леонтьев, по его словам, чуть не подпрыгнул от радости. Конкурс был как нельзя более подходящим для него – ведь на песнях Лили Ивановой, Карела Гота, Яноша Кооша, польских певцов он рос и формировался. Многие из них входили в его программу. Подошел срок – Леонтьев выехал в Ялту. По условиям конкурса надо было исполнить три песни стран социалистического содружества, три советские и одну новую. К этому времени вышла пластинка-миньон Давида Тухманова с песней «Памяти гитариста». Она и стала главным номером конкурсного репертуара Леонтьева. Добавил две польские, одну болгарскую и – неожиданно для себя (в Крым отправился не столько себя показать, сколько людей посмотреть) – стал обладателем первой премии.
После этого записал для «Мелодии» свой первый миньон. Опыта для работы над диском ещё не было, материал был отобран бледный. Первая встреча с грамзаписью оказалась неудачной.
Попытался предложить свои услуги телевидению. Встретился с музыкальной редакцией, исполнил для них несколько номеров. Редактор порекомендовал обратиться за новыми песнями к Давиду Тухманову, устроил их встречу.
- В самом страшном сне я не мог себе представить, что буду петь под аккомпанемент самого Тухманова у него дома, - вспоминает Леонтьев. – Исполнил балладу «Памяти гитариста», зацепинскую «Ищу тебя». Тухманов, обратив внимание на мои пританцовывания, попросил показать, что я и тут умею. Поставил на проигрыватель пластинку – диск группы «Ирапшн», и я под эту музыку стал импровизировать какие-то танцевальные па…
Так началось творческое содружество композитора и певца. Первая вещь, предложенная Тухмановым Леонтьеву, была на популярную «дискотечную» тему – «Кружатся диски». Материал певцу понравился, ритмическая структура песни давала возможность ощутить радость движения, свободу мимики, жеста. Работа над песней продолжалась долго – сначала дома, за роялем, потом в студии, во время записи. Была поставлена определенная цель – создать жизнерадостную молодежную песню, вещь с ярким, оптимистическим настроением. Точно расставить все смысловые акценты.
Затем песня была записана и сведена. Под эту фонограмму телевидение отсняло сюжет (видеоклип) для новогоднего «Голубого огонька». Всем – исполнителю, композитору, редакторам – работа понравилась. Однако накануне Нового года этот телесюжет был из передачи вырезан: не пришелся по вкусу тогдашнему руководству телевидения. Сколько раз ещё придется потом артисту испытывать горечь запретов, «вырезаний» и «выбрасываний» из всевозможных эстрадных программ!..
Тем временем работа с Тухмановым продолжалась. Вслед за «Дисками» были записаны «Ненаглядная сторона» (стихи С. Романова), «Там в сентябре» (стихи Л. Дербенева). Последняя из них – романтическая песня-мечта. Трудная, интонационно-широкая по диапазону, с большим количеством скачков в мелодии, сложных переходов. Валерий записывал её дабл-трэком, то есть в унисон с самим собой, как бы уплотняя, утолщая мелодическую ткань.
Летом 1980 года он едет в Болгарию, на международный конкурс песни «Золотой Орфей». По условиям конкурса требовалось исполнить две песни: одну – болгарскую, другую – своей страны. Болгарская («Вечность» Митко Штерева и Штефана Банкова) была готова уже давно. Красивая, экспрессивная баллада, неплохо «наработанная» Леонтьевым в концертах. Что взять из советских? Обратился к Тухманову, попросив композитора сделать новую аранжировку старого «Танцевального часа на солнце». Тухманова идея эта привлекла, взялся писать оркестровку, а сделал в итоге почти совсем другую, новую песню. Леонтьев сразу же включил её в концерт, чтобы как можно шире проверить на слушателе, найти смысловые и интонационные точки опоры. Песня долго не получалась, не были даже слышны слова – приходили записки с вопросами: «Что это такое – ваши «протубанцы» или «дуберанцы»? Наконец появилась уверенность, что вещь выстроена эмоционально и логически точно, был продуман ее пантомимный ряд…
Выступление Леонтьева на фестивале транслировалось по телевидению в несколько десятков стран мира. А телесюжет с «Танцевальным часом на солнце» стал его премьерой и на экране отечественного ЦТ.
Леонтьев был удостоен первой премии.
Период, последовавший за удачным выступлением на «Золотом Орфее», принес Леонтьеву широкую популярность. Он много звучит по радио, телевидение, хотя и осторожно, такжк включает его в свои эстрадные программы. Наряду с Яаком Йоалой и Юрием Антоновым он становится одним из любимцев публики тех лет. Звездой. Его «театр песни», вольная, рискованная манера исполнения, сочетающая элементы эстетики кабаре, цирка и одновременно психологически углубленной баллады, приобретает миллионы сторонников. Однако наряду с поклонниками появляются и недоброжелатели, отвергающие предлагаемую им модель. Это люди консервативных вкусов, с трудом воспринимающие все новое на эстраде. Критике подвергается в первую очередь сценический образ певца. Журналисты иронизируют над прической и костюмами Леонтьева; телевидение не знает, что делать с его пластикой, - видеосюжеты с новыми песнями регулярно исключаются из программ либо переснимаются в «облегченном» варианте. Были запланированы, но в последний момент отменены гастроли по ФРГ и Скандинавии.
В этот период артист о многом задумывается, пытается осмыслить свою работу, найти основные принципы, по которым он строит свой концерт.
Вот несколько отрывков из интервью, взятого мною у Леонтьева осенью 1981 года.
-Как Вы пришли к Вашей манере, включающей жест, пантомиму, танец?
- Я мог бы Вам ответить: потому что понял, что в наше время недостаточно только петь, что надо подключать другие средства художественного арсенала – танцы, элементы цирка, спорта и т.д. Но если говорить откровенно, то – не знаю. Интуитивно. Мне этого хотелось. Таково моё ощущение песен. Для меня, когда я пою, очень важным является то, что можно было бы назвать ощущением полета. Всегда наступает такой момент, когда приходит душевный подъём, полное освобождение. И тогда музыка рождает или вплотную подводит к таким дополнительным средствам выразительности, как мимика и танец. Тогда всё движется, несется, стремительно летит как бы помимо меня самого, вне моего контроля.
- Но ведь у Вас есть и отрепетированные сцены. Ряд эпизодов Вы исполняете совершенно синхронно с сопровождающим Вас танцевальным трио…
- Да, в некоторых песнях моего дискоблока есть режиссерски поставленные куски (кстати, все танцы придумал я сам). Но даже и в этих песнях промежутки между сделанными сценами я импровизирую.
- А как Вы формируете сам танцевальный рисунок?
- Всё зависит от песни. В простых вещах стиля диско я как бы танцую ритм. В более сложных по образу ищу какой-то условный сюжет. Есть баллады, в которых я почти выключаю движение – там достаточен «театр лица» … Плюс несложные сценические аксессуары: стул, шляпа. У меня были попытки работать и с воображаемыми предметами, - например, песню «Памяти гитариста» я одно время пробовал исполнять с воображаемым стулом. Но выходило громоздко, и в конце концов на сцене появился реальный стул. Пытался выступать и с радиомикрофоном – выгода огромная, не надо путаться в шнуре, наступать на него, переступать и т.д. К сожалению, качественных радиомикрофонов пока почти нет (хотя именно за ними, конечно, будущее). Пришлось применять обычный микрофон со шнуром. Зато стремлюсь обыграть и микрофон, и шнур. Микрофон может стать цветком, гранатой, рычагом, мячиком. Шнур – бичом, змеей, канатом, с ним постоянно борешься, он – живой. Это ощущение сопротивления вещи необходимо.
- Вы несколько раз за вечер меняете костюм…
- Костюм вообще важный элемент программы. Он зависит от музыки, но иногда и порождает её. Строгая тройка заставляет собраться, петь более сдержанно, четко. Фантазийные костюмы дают всю мыслимую свободу жеста, движения, прыжка. Иной раз, придумав себе новый костюм, я под него выбираю песню.
- Ваши трудности сегодня?
- Надо сменить часть репертуара, требуются новые песни. Песня – товар скоропортящийся, его нужно много, нужны запасы. Я по-прежнему тесно связан с Тухмановым, хотя понимаю, что он не может без конца работать на одного меня, отдавая мне все свои новинки. Пробую войти в контакт с Шаинским, Саульским. Я пою «Молитву клоуна», которую взял со старой пластинки Елены Камбуровой. Мне вообще нравятся песни Саульского – их эмоциональное половодье, разлив мелодий, человечность. Но конечно, я сотрудничаю и с молодыми авторами…
Год 1982-й. …Для Леонтьева он был памятен несколькими событиями – участием во Всесоюзном фестивале популярной музыки в Ереване, еще одной сменой филармонии (перешёл в Ворошиловградскую), подготовкой первой тематической программы («Я просто певец»), началом учебы в Ленинградском институте культуры, знакомством с Раймондом Паулсом. Последнее можно назвать предварительным, гораздо более плотное сотрудничество произойдет у них в 1984-1986 годах, а пока это лишь первый контакт: для творческого вечера Паулса в московском Театре эстрады («У нас в гостях маэстро») Леонтьев выучил песню «Если ты уйдешь» на стихи А. Дементьева. Выучил утром, прямо в гостиничном номере, где остановился композитор. Вечером певец «случайно» оказался в зале, и ведущая, Алла Пугачева, столь же «случайно» обнаружив его, пригласила на сцену…
Ереванский фестиваль был задуман организаторами с размахом. Проводился он на велотреке, под открытым небом, при многотысячной аудитории. В концертах принимали участие большинство популярных эстрадных музыкантов тех лет – солисты и вокально - инструментальные ансамбли. Леонтьев завоевал два приза – приз публики и приз газеты «Вечерний Ереван». В зале было много зарубежных корреспондентов. Журнал «Тайм» позже писал со свойственной американцам хлесткостью: «Леонтьев – это вокал Мика Джаггера и хореография Барышникова». Валерий пел в Ереване свою обычную программу. Однако удовлетворение ею прошло, теперь она казалась слишком разнородной, пестрой. Возник замысел сквозной программы – с единой мыслью, со сверхзадачей, когда каждая следующая песня продолжает предыдущую. Как этого добиться, артист пока не знал: законы режиссуры, формы, теория эстрадного дела ему были ему неведомы, работал он интуитивно. В новой программе 1982 года «Я просто певец» постановка которой была осуществлена на сцене зала «Октябрьский», ведущей темой стала жизнь артиста, его отношения со зрительным залом, со сценой, со своей профессией.
Собственно, новых песен в ней было не так уж и много, среди них заглавная «Я просто певец», написанная молодым ленинградским автором Лорой Квинт. Зато удалось логично выстроить старый репертуар – в основном тухмановские работы: «Памяти гитариста», «Памяти поэта», «Танцевальный час на солнце», «Там в сентябре», «Ненаглядная сторона». Второй, как бы дополняющей темой программы стала жизнь цирка: «Куда уехал цирк?» (В. Быстрякова, В. Левина), «Разноцветные ярмарки», «Зеркало и шут».
Программность, наличие сверхзадачи стали принципом, ао которому строились и все последующие концертные циклы Леонтьева. Так, в «Бегу по жизни» (1983) прозвучали песни, вошедшие в политический фильм – памфлет «Последний довод королей». Их автор – киевский композитор Владимир Быстряков (стихи Наума Олева). Третья программа – «Наедине со всеми» (1985) – это уже паулсовский период, хотя заглавная песня принадлежала Владимиру Шаинскому (стихи А.Поперечного). «Наедине со всеми» - это концерт – исповедь, разговор по душам с аудиторией, причем большая часть песен – жизнерадостные, шутливые. Внешне программа носила близкий Леонтьеву мюзик-холльный характер: было привлечено много исполнителей, балет, а для морского блока – группа сигнальщиков из Кронштадта. Среди песен были такие шлягеры года, как «Вероока» (Р. Паулс – И. Резник), «Затмение сердца» (Р. Паулс – А. Вознесенский), «Зеленый свет» (Р. Паулс – Н. Зиновьев), «Поющий мим» (Р.Паулс – И.Резник) и другие, написанные специально в расчете на исполнительские возможности и сценический образ Леонтьева.
Тема «Звездного сюжета» (1986) была определена привязанностью артиста ко всему неземному – космосу, фантастике, проблемам будущего нашей цивилизации, протесту против перспективы «звездных» войн. Название циклу дала песня Татьяны Сашко.
Пятая программа артиста, «Признание» (1987), - это его дипломный спектакль. Обращение к ленинградцам – зрителям, друзьям, коллегам. Своеобразное объяснение им в любви. Среди участников концерта было несколько известных ленинградских артистов – Михаил Боярский, Александр Розенбаум, танцевальная группа «Маски». Это театрализованное представление для молодежи, в котром Леонтьев показывал, чему он научился в институте как режиссер эстрадных представлений…
Институт Культуры для Леонтьева – закономерная случайность.
После «Золотого Орфея», по словам артиста, ему очень хотелось показать себя, подтвердить, что первая премия заработана честно. Он стал так выкладываться на концертах, с таким напряжением, форсировкой звука петь, что быстро заработал себе опухоль на связке. На какое-то время голос вообще пропал. Леонтьев обратился в Ленинградский институт уха, горла, носа, к профессору Ральфу Исааковичу Райкину, брату знаменитого Аркадия Райкина, который знал, любил и не первый год лечил эстрадных артистов. Пока шли процедуры, Валерий задумался о будущем. А что если с пением покончено? Нужна, наверное, какая-то другая профессия, связанная со сценой, художественной средой… К тому же вообще неплохо было бы получить высшее образование – в Воркуте дошел до третьего курса Горного института, но бросил учебу. Леонтьев сдает экзамены на режиссерский факультет Института культуры. Становится заочником. Правда, вскоре выясняется, что с голосом у него все в порядке: фиброму профессор Райкин успешно удалил. А институт остался. В течении пяти лет шли занятия. Никаких поблажек Валерий не имел. Приезжал на все зачеты и экзамены, выстраивая гастрольный график таким образом, чтобы образовывались соответствующие «окна». Учился хорошо.
Дипломная работа – «Признание» - была оценена государственной комиссией на «отлично».
В 1984 году начинается новая заметная полоса в творчестве артиста – сотрудничество с Раймондом Паулсом. Начало этому содружеству положил, как и в 1982 году, авторский концерт Паулса в ленинградском зале «Октябрьский». В первом отделении прозвучал одноактный мюзикл «Звезда Керри», с Маргаритой Тереховой и балетом Бориса Эйфмана. Во второе вошли десять новых песен Паулса в исполнении Леонтьева. Этот материал несколько позже составил пластинку «Диалог» и получасовой видеофильм «Я с тобой не прощаюсь». Большинство песен этой серии немедленно стали хитами, то есть популярными мелодиями, бывшими у всех на слуху.
Пластинка получила название по одноименной песне на стихи Н. Зиновьева, однако в виду имелся, разумеется, вполне конкретный диалог певца и композитора. Они действительно обрели, взаимно дополнили друг друга. Оба тяготели к кабаре, эффектной сценической подаче каждого номера, щедрому мелодизму, бытовой узнаваемости. Десять паулсовских шансонов представили хорошо знакомые слушателям лирические сюжеты со знаковой системой повседневных реалий. При этом в ритмико – интонационной сфере песен легко различались приемы входившей в моду итальянской песни, что опять-таки совершенно не противоречило леонтьевской манере.
Открывает альбом «Вероока» - веселая песенка об игрушечном персонаже, помогающем герою коротать грусные минуты:
«Он сидит со мною рядом
На окошке
И наигрывает на губной гармошке…»
Шуточный шлягер, простая эстрадная песенка. Ничего проблемного, глубокого, значительного. Отчего же тогда голос певца трагически напряжен? Этот вопрос можно задать Леонтьеву ещё не один раз…
«Затмение сердца» (Стихи А. Вознесенского). Сентиментальная, чувствительная мелодия. Банальный сюжет: конфликт между влюбленными. В запеве голос спокоен и сдержан. Постепенно интонации раскаляются, становятся патетическими, страстными:
«Затмение солнца темнит небосвод…
Затмение сердца прошло и пройдет…»
Обычные лирические переживания. Однако артист выделяет в песне что-то такое, что позволяет укрупнить тему, сделать ее особо интимной, личностной, теплой, человечной, близкой и понятной каждому.
Следующие два номера («Я с тобой не прощаюсь» и «Годы странствий» на стихи И. Резника) явно стилизованы под «итальяно»: краткий, почти условный запев, ведущий к мелодически сочному, ликующему припеву, наполненному знакомыми оборотами римских или неаполитанских канцон. «Итальянистость» уже впрямую обыгрывается в следующей песне – «Человеке – магнитофоне» на стихи А. Вознесенского:
«Каждым утром рано
У своих ворот
Местный Челентано
Песенку поет…»
Городской пейзаж – картинка не без неореалистических подробностей:
«Не скопил он денег
На магнитофон.
Сам, как фонотека
Полон песен он…»
И для Паулса и для Леонтьева стилизация итальянских мелодий – это знак: связь с городом, уличной жизнью, бедными кварталами, судьбами простых людей. Нечто чаплиновское: тема маленького человека – не героя, не звезды… Эта тема ощутима в некоторых других песнях «Диалога»: «Поющий мим», «Полюбите пианиста» (стихи А. Вознесенского).
Наиболее известной стала, однако, самая последняя песня пластинки – «Зеленый свет». В ней как бы два слоя. Первый – внешний, сюжетный. Хорошо знакомый бег трусцой, бег – спасение от всех недугов цивилизации, болезней, стрессов и перегрузок больших городов.
В своих концертных выступлениях Леонтьев этот сюжет, кстати говоря, реализует, делая пробежку по залу вместе с иллюстрирующей песню танцевальной группой (в многотысячном московском спорткомплексе «Олимпийский» пробегаемое расстояние достигало полукилометра). Второй смысловой слой – игра в абсурд: бег как суета, в которой мы погрязли.:
«Все бегут, бегут, бегут, бегут,
Бегут, бегут, бегут, бегут…»
А он им светит…»
Это ироническое (но и одновременно грустное, сочувствующее) звучание «Зеленого света» осталось не считанным, не понятым многими критиками, воспринявшими песню лишь как веселую мелодию. На самом деле здесь, конечно же, одна из типично леонтьевских драматических коллизий – смещенный, перевернутый мир, в котором герою одиноко и неприютно…
Пластинка «Диалог» имела широкий отклик и была издана большим тиражом.
Вслед за ней появились и другие: альбом «Дискоклуб 16», составленный из песен в танцевальных ритмах, записанных в разное время (туда вошли, между прочим, «Кабаре» Паулса; «Продавец цветов», одна из первых авторских композиций Леонтьева, написанная совместно с Ю. Варумом, «Сеньорита Грация» П. Теодоровича); пластинка песен ленинградского композитора Ю. Морозова («Премьера») и наконец, пятый альбом в леонтьевской дискографии и вторая его совместная работа с Р.Паулсом – «Бархатный сезон».
Заглавие это не случайное.
Открывает диск «Гиподинамия» - шлягер, без которого не обходился в тот период ни один дискотечный вечер. Сюжетно – возвращение к «Зеленому свету», ироническое обыгрывание «борьбы за сосуды».
«Гиподинамия…это минимум движения,
Это всех надежд крушенье
(Наших сокращенье) лет…»
Компьютерно – синтезаторное сопровождение (все аранжировки диска принадлежат Ю. Варуму) звучит холодно и бесстрастно. Машинный пульс не знает перебоев. В музыкальный звукопоток ловко вмонтированы шумы – голоса, смех, гул толпы. На фоне этих «ритмов большого города» - звонкий голос певца, то веселый, беззаботный, то язвительный, ернический, то тревожный. Вроде бы это все шутка, легкая ирония. Но есть тут что-то болезненное, гротескно – деформированное, даже страшноватое. И эту страшноватость придает «Гиподинамии» вокал: градус его напряжения не соответствует легковесности песенки…
Вторая вещь, «Притяжение любви», стилистически, да и сюжетно как бы продолжает первую. Любовь робота:
«Вот и сердце нашлось
Где-то в схеме моей
Посреди проводов
И магнитных полей!»
Звучание гитарно – синтезаторного сопровождения, как и в «Гиподинамии», холодно – механическое, машинное. Эту машинность обыгрывает и певец, выступающий в двух ипостасях: как звуковой автомат и как живое, страдающее существо:
«Я не умею больше жить
Без притяжения любви…»
Легко догадаться, что речь идет вовсе не о роботе. Это он, человек – без любви. Лик электронного уродца скрывает обычное тоскующее человеческое лицо…
Две первые композиции стоят особняком, образуя микроцикл внутри пластинки. Стилистически это электропоп – манера, никогда Леонтьевым прежде не применявшаяся.
С третьей песни «лицо» пластинки резко меняется. Начинается второй песенный круг. «Три минуты» (стихи Н. Зиновьева). Резкое переключение в темпе. Задумчивая баллада: «Только три минуты длится песня. Вспыхнет и погаснет, как звезда…» Любимая артистом широкая мелодическая линия, дающая возможность показать эмоциональный напор, даже некоторый душевный надлом, стать в чувствительную позу. В песне сплавлены элементы танго, цыганские интонации. Возникает и знойное соло скрипки. «Три минуты – это много или мало, чтобы все сказать и все начать сначала…» Почти цитата из эстрады тридцатых годов времен «Утомленного солнца» и «В парке Чаир».
И наконец, гвоздь программы – «Бархатный сезон». Песня демонстративно мелодичная, сочная, как спелый виноград. Сочетающая солнечность неаполитанских канцон, сладких напевов Карела Гота, отечественных лирических романсов. Песня с узнаваемой ситуацией:
«Август – сентябрь,
Молчит телефон.
Август – сентябрь
Бархатный сезон!»»
Исполняя эти нехитрые фразы, певец доходи до экстаза, это уже не просто пение, но страстный призыв, мольба. Откуда же все эти стоны, крики, почти рыдания? Откуда «оперность»? Неужели пустенький, в сущности, телефонно – отпускной сюжет способен подвигнуть на такое? Вряд ли. Но эмоциональная взвинченность придает песне какой-то иной, не заложенный в ней изначально смысл…
Следующая вещь продолжает наметившуюся пляжно – курортную линию «В стиле шторма». Музыкально – не первая уже в тандеме Паулс – Леонтьев стилизация «под итальяно». В тексте Н. Зиновьева такая же сознательная стилизация «под пляжный» стиль:
«Вновь в море под луной
Мы на корабле
В поздний час танцуем,
Пой, ветер, за кормой!
Утонуть в мечте
Мы сейчас рискуем…»
Широкая мелодическая линия, приятный инструментальный фон (синтезаторы звучат приторно и знойно). Музыка мечты о счастье и любви. Множество ассоциаций с тридцатыми годами, незабвенными фокстротами и танго, под которые танцевали наши родителя. Так и видятся белые пиджаки, белые брюки, пальмы в кадках…
Финал пластинки слегка отходит от устоявшейся в ней ретро стилистики. «Маяк» - реггей, «Комета Галлея» - легкий рок. Здесь хорошо знакомый, дискотечный, молодежный Леонтьев. Важны не слова песен, а ритм, полетность: завертеть, закрутить слушателя в пестром карнавале, в окружении таких же, как и он сам, молодых, веселых лиц.
«Бархатный сезон» подытоживает поиск артиста (и точно работающего на него композитора) 1985-1986 годов. Пластинка намечает два песенных «среза»: первый – иронически – машинный и второй – сентиментально – «пляжный», с акцентами, идущими от модной в 80 годах итальянской эстрады, и китчевым антуражем. Второй срез (кстати, модное направление в мировой эстрадной песне) балансирует на опасной грани. Еще миллиметр – и пойдет огрубление, дурной вкус. Спасает мастерская аранжировка и талант артиста, точно ощущающего мели моветона, эмоционально вуалирующего их. Певец одновременно и расчетлив, и самозабвенен. Он умеет убаюкать, заворожить и в то же время взрывается неистовыми сполохами, озаряет мелодическими сполохами.
В это же самое время – 1985 и 1986 годы – Леонтьев принимает активное участие в двух крупных международных акциях, проходивших в Москве: XII Всемирном фестивале молодежи и «Играх доброй воли». Он среди действующих лиц в красочных карнавальных шествиях открытия и закрытия этих фестивалей; выступает в сборных и сольных концертах.
Выступления Леонтьева на фестивале молодежи были отмечены высокой наградой – премией Ленинского комсомола.
Год 1987-й. Артист впервые работает над большой формой – эстрадно – песенной оперой. Он рассказывает:
- У меня давно уже была какая-то смутная идея музыкально – драматического спектакля со сквозным сюжетом. Представлялась она мне сначала в виде мюзикла по мотивам киплиновского «Маугли». Но время шло, вот уже тридцать восемь, тридцать девять… Я понял, что не так уж юн для Маугли… К тому же захотелось какой-то другой, лирико – философской темы. И тогда ленинградский композитор Лоа Квинт предложила оперу на сюжет о Джордано Бруно. Используя поэтический текст Владимира Кострова, она выстроила масштабное произведение с острой, драматической музыкой. В ней и симфонические эпизоды, и рок, и баллады, и лирика, и шутовство. Сама тема пленила меня: Возрождение, романтические страсти эпохи. Но главное в другом – в человеческом, гражданском подвиге ученого. Заявить о множественности миров, о том, что мы не одиноки во Вселенной – ведь это поступок.
Там много других персонажей – друзья Джордано, его враги, инквизиция, монах, знатные вельможи, возлюбленная Моргана. У меня в опере три роли – заглавная, роль Шута и роль Сатаны, появляющегося во время черной мессы.
Эта опера предполагается к исполнению во время гастролей, но конечно, для такой работы артистов нужного класса не собрать. И поэтому в спектакле буду петь я один, а многое будет звучать в виде записей. Так, партию Морганы записала Лариса Долина. Зрительный ряд будет представлен балетными танцорами. С кажем, балерина танцует, а в это время звучит фонограмма Долиной. Такой метод позволит сравнительно легко прокатывать спектакль.
Премьера его состоялась в Государственном концертном зале «Россия» в июле 1988 года. Успех спектакля превзошел все ожидания…
Движение – по-прежнему стихия Леонтьева. Но чистого танца стало в последние годы меньше, он появляется лишь там, где обусловлен содержанием песни (скажем в паулсовском «Кабаре»). Жест стал более скупым, многое как бы ушло внутрь, психологизировалось. Искрометных фейерверков поубавилось. Артист соглашается:
- Да, раньше было больше мускульной радости, сейчас излишняя мишура, калейдоскопичность ушли. Танца ради танца нет. Хотя там, где нужно, танцую с удовольствием. Ясно ощущаю тягу публики к задушевным, лирическим мелодиям, к драматическим балладам, таким, как «Бал» (З. Краевски – М. Герцман), «Белая ворона» (Г. Татарченко – Ю.Рыбчинский), к незатейливым песенкам под баян («Исчезли солнечные дни» на стихи Р.Гамзатова) Конечно, в таких песнях движение сведено к необходимому минимуму.
- А Ваши костюмы? Лет пять-семь назад у Вас преобладали «фантазийные блузы» …
- Сегодня я одеваюсь по-другому. Скромнее. Ушел стиль диско, а с ним и упомянутые блузы. Сейчас господствует «новая волна», спортивная мода: большие пиджаки, укороченные брюки, игольчатая прическа. Мне кажется, всеми этими атрибутами я как бы отдаляю себя от образа человека «правильного», хорошо одетого и благовоспитанного. Такого образа я боюсь, я не хочу его. Мой герой иной – клоун, шут, денди, чаплиновский маленький человек, робот, пародийный «космический пришелец», наконец кавалер XVIII века в камзоле и при шпаге. Но под каждой из этих масок – человек. Глубоко чувствующий, страдающий и предельно искренний.
Конечно, наряду с костюмом ярким, некаждодневным я использую и традиционную «тройку». Она естественна и необходима в авторских вечерах, в обстановке Колонного зала или концертного зала «Россия». А в общем, дышать на эстраде стало легче. И в смысле костюма также. Я рад, что сейчас мне не надо ни под кого подстраиваться, что я могу одеваться так, как считаю нужным...
Леонтьев теперь не только поет, но и размышляет в телепрограммах ( «Музыкальный ринг»), пишет статьи. В одной из них, «Поиск не запланирован» (Сов.культура, 1986, 26 апр.)
Он говорит: «Эстрада динамична, и многое, что сегодня актуально, перестает быть таким на следующий день. Я, например, не против песен – однодневок. Пусть они тоже будут, только пусть не идут с нами в завтра».
Прошу артиста прокомментировать эту мысль подробней.
- Но ведь так оно и есть на деле. Песня, даже самая лучшая, самая умная, живет год-другой. А не самая лучшая? Мне кажется, что красивая, нарядная песня-бабочка, которую приятно слушать, которая дает нам миг отдыха, наслаждения, вполне соответствует своей функции. Сегодня одна, завтра придет другая. От изменений музыкальной моды никуда не уйти… Я не хочу сказать этим, что содержание песен должно ограничиваться пустяками, преходящими мимолетностями. Я люблю красивые мелодии, стремлюсь создать в программе яркое шоу. Но именно сейчас мне хочется выйти за пределы собственных рамок. Появилось ощущение, что нужно говорить в песне о чем-то ином, чем прежде. О каких-то проблемах. О болевых точках. На днях мне прочитали стихи, которые могли бы стать основой будущей песни. Они о Доме для престарелых. Есть замысел песни о молодоженах, еще не знающих всех трудностей и тягот своей будущей жизни. Или вот – хочется спеть песню о манекенах, стоящих в витрине магазина. Посмотреть на людей их глазами.
Да, я люблю легкие, веселые песни. Но где-то внутри мне ближе проблемный, трагический материал.
Кто же такой Леонтьев?
Прежде всего – романтик, мечтатель, сказочник. При этом еще чудак, клоун, шут. Если попытаться использовать определение, данное Федерико Феллини в его книге «Делать фильм», то это элегантно-трагический белый клоун (само изящество, грация, гармония, ум, трезвость мысли). Чьим, по Феллини, антиподом является рыжий клоун (шутник, забияка, драчун, хулиган, - у нас на эстраде, видимо, Алла Пугачева).
В большинстве своих работ Валерий Леонтьев добр и человечен. Он обладает тем редким качеством, которое А. Пахмутова, говоря как-то о нем, назвала «трещинкой в сердце». Его искусство – яркое, отчаянное, искреннее."
А. Петров
материал из книги:
"Певцы советской эстрады"
выпуск третий
Москва
"Искусство"
1992
Комментарии (1):
Комментарии (1):
вверх^
Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.
Дневник Из сборника "Статьи советской эстрады" 1992 год | Елена_Гл - Дневник Елена_Гл |
Лента друзей Елена_Гл
/ Полная версия
Добавить в друзья
Страницы:
раньше»