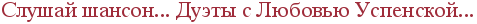Музыка | Дуэты с Любовью Успенской...
10-02-2025 21:06
к комментариям - к полной версии
- понравилось!
Комментарии (12):
Мадам_Беликова
11-02-2025-06:31
удалить
Emiliaa, Хорошие дуэты
Ответ на комментарий vit4109 #
Привет, Вит! И тебе спасибо!
Ответ на комментарий Мадам_Беликова #
Привет, Таня! Я не очень-то слушаю Успенскую, но в дуэтах вроде хорошо...
Все перетрется. Успокоится.
И плачь и смех, и жар и хлад.
И облаков белесых конница
Умчится в розовый закат.
Ещё не раз листву опавшую
Накроет белый-белый снег.
И душу-душеньку уставшую
Не раз оплачет человек.
Пройдет и это. Но останется
Нерастворимый глас любви.
И будут странники и странницы,
Ее вещать, как соловьи.
Душа не просит ничегошечки:
Ни звезд, ни славы, ни войны...
Светились бы в ночи окошечки:
– Мой свет...
– Душа моя...
И точечки...
И много-много ти-ши-ны...
/Лейли Забавина/
И плачь и смех, и жар и хлад.
И облаков белесых конница
Умчится в розовый закат.
Ещё не раз листву опавшую
Накроет белый-белый снег.
И душу-душеньку уставшую
Не раз оплачет человек.
Пройдет и это. Но останется
Нерастворимый глас любви.
И будут странники и странницы,
Ее вещать, как соловьи.
Душа не просит ничегошечки:
Ни звезд, ни славы, ни войны...
Светились бы в ночи окошечки:
– Мой свет...
– Душа моя...
И точечки...
И много-много ти-ши-ны...
/Лейли Забавина/
Ответ на комментарий Emiliaa #
Вл. Соколову
Есть в музыке такая неземная,
как бы не здесь рожденная печаль,
которую ни скрипка, ни рояль
до основанья вычерпать не могут.
И арфы сладкозвучная струна
или органа трепетные трубы
для той печали слишком, что ли, грубы,
для той безмерной скорби неземной.
Но вот они сошлись, соединясь
в могучее сообщество оркестра,
и палочка всесильного маэстро,
как перст судьбы, указывает ввысь.
Туда, туда, где звездные миры,
и нету им числа, и нет предела.
О, этот дирижер — он знает дело.
Он их в такие выси вознесёт!
Туда, туда, всё выше, всё быстрей,
где звездная неистовствует фуга...
Метёт метель. Неистовствует вьюга.
Они уже дрожат. Как их трясёт!
Как в шторм девятибальная волна
в беспамятстве их кружит и мотает,
и капельки всего лишь не хватает,
чтоб сердце, наконец, разорвалось.
Но что-то остаётся там на дне,
и плещется в таинственном сосуде
остаток, тот осадок самой сути,
её безмерной скорби неземной.
И вот тогда, с подоблачных высот,
той капельки владетель и хранитель,
нисходит инопланетянин Моцарт
и нам бокал с улыбкой подаёт.
И можно до последнего глотка
испить её, всю горечь той печали,
чтоб, чуя уже холод за плечами,
вдруг удивиться —как она сладка!
/Юрий Левитанский/

Есть в музыке такая неземная,
как бы не здесь рожденная печаль,
которую ни скрипка, ни рояль
до основанья вычерпать не могут.
И арфы сладкозвучная струна
или органа трепетные трубы
для той печали слишком, что ли, грубы,
для той безмерной скорби неземной.
Но вот они сошлись, соединясь
в могучее сообщество оркестра,
и палочка всесильного маэстро,
как перст судьбы, указывает ввысь.
Туда, туда, где звездные миры,
и нету им числа, и нет предела.
О, этот дирижер — он знает дело.
Он их в такие выси вознесёт!
Туда, туда, всё выше, всё быстрей,
где звездная неистовствует фуга...
Метёт метель. Неистовствует вьюга.
Они уже дрожат. Как их трясёт!
Как в шторм девятибальная волна
в беспамятстве их кружит и мотает,
и капельки всего лишь не хватает,
чтоб сердце, наконец, разорвалось.
Но что-то остаётся там на дне,
и плещется в таинственном сосуде
остаток, тот осадок самой сути,
её безмерной скорби неземной.
И вот тогда, с подоблачных высот,
той капельки владетель и хранитель,
нисходит инопланетянин Моцарт
и нам бокал с улыбкой подаёт.
И можно до последнего глотка
испить её, всю горечь той печали,
чтоб, чуя уже холод за плечами,
вдруг удивиться —как она сладка!
/Юрий Левитанский/

Комментарии (12):
вверх^
Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.
Дневник Музыка | Дуэты с Любовью Успенской... | Emiliaa - Дневник Emiliaa |
Лента друзей Emiliaa
/ Полная версия
Добавить в друзья
Страницы:
раньше»