Литература о православии в Японии Часть3
Gwad
04-07-2007 15:39
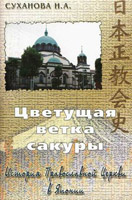
Суханова Н.А. Цветущая ветка сакуры. История Православной Церкви в Японии. М; 2003
Дипломная работа выпускницы факультета журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Небольшая по объёму, но очень содержательная книжка. Я давал её читать одному минскому отаку, совершенно далёкому от православной веры. Он прочёл с огромным интересом и был весьма доволен тем, что узнал об истории Японской Православной Церкви.
Автор рассматривает разные периоды существования православия в Японии. Начинается книга с описания деятельности русской духовной миссии в Хакодате и Токио. Отдельные главы посвящены личности о. Николая (Касаткина), непростому отношению к Японской Православной Церкви накануне и во время русско-японской войны.
Вторая часть книги рассказывает о состоянии Японской Православной Церкви в период между революцией в России и концом Второй мировой войны.
Третья часть посвящена периоду после 1945 г. вплоть до новейшего времени.
комментарии: 4
понравилось!
вверх^
к полной версии
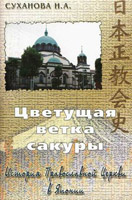
Суханова Н.А. Цветущая ветка сакуры. История Православной Церкви в Японии. М; 2003
Дипломная работа выпускницы факультета журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Небольшая по объёму, но очень содержательная книжка. Я давал её читать одному минскому отаку, совершенно далёкому от православной веры. Он прочёл с огромным интересом и был весьма доволен тем, что узнал об истории Японской Православной Церкви.
Автор рассматривает разные периоды существования православия в Японии. Начинается книга с описания деятельности русской духовной миссии в Хакодате и Токио. Отдельные главы посвящены личности о. Николая (Касаткина), непростому отношению к Японской Православной Церкви накануне и во время русско-японской войны.
Вторая часть книги рассказывает о состоянии Японской Православной Церкви в период между революцией в России и концом Второй мировой войны.
Третья часть посвящена периоду после 1945 г. вплоть до новейшего времени.
Литература о православии в Японии часть2
Gwad
18-06-2007 17:28
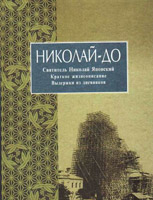
Николай-До
святитель Николай Японский Краткое жизнеописание Выдержки из дневников СПб; Библиополис 2001
Автор одного из жизнеописаний святителя Николая Японского, А. Платонова писала: «Знать о нем возможно более подробно – долг всякого русского человека, потому, что такие люди, как архиепископ Николай – гордость и украшение своей страны».
Святитель Николай (Касаткин), молодым иеромонахом приехавший в Японию и возглавивший русскую духовную миссию в этой стране, отдал делу проповеди христианства всю свою жизнь. Книга посвящена его непростой судьбе, трудам проповедника и переводчика, любви к Японии, которую владыка пронёс через всю жизнь.
Об этом человеке ходили легенды. Говорили, будто он – сын японца, бежавшего от преследований правительства и женившегося на русской. Протоиерей И. Восторгов, посетивший Японию, вспоминал: « Не было человека в Японии, после императора, который пользовался бы в стране такой известностью. В столице Японии можно было не спрашивать, где русская духовная миссия, достаточно было сказать одно слово «Николай», и буквально каждый рикша сразу знал, куда нужно было доставить гостя миссии. И православный храм назывался «Николай», и место миссии тоже «Николай», даже само православие называлось «Николай»».
В 1970 г. архиепископ Николай (Касаткин) был канонизирован Русской Православной Церковью, так что по сути дела, эта книга является наиболее полным сборником материалов для составления его жития.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
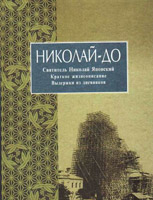
Николай-До
святитель Николай Японский Краткое жизнеописание Выдержки из дневников СПб; Библиополис 2001
Автор одного из жизнеописаний святителя Николая Японского, А. Платонова писала: «Знать о нем возможно более подробно – долг всякого русского человека, потому, что такие люди, как архиепископ Николай – гордость и украшение своей страны».
Святитель Николай (Касаткин), молодым иеромонахом приехавший в Японию и возглавивший русскую духовную миссию в этой стране, отдал делу проповеди христианства всю свою жизнь. Книга посвящена его непростой судьбе, трудам проповедника и переводчика, любви к Японии, которую владыка пронёс через всю жизнь.
Об этом человеке ходили легенды. Говорили, будто он – сын японца, бежавшего от преследований правительства и женившегося на русской. Протоиерей И. Восторгов, посетивший Японию, вспоминал: « Не было человека в Японии, после императора, который пользовался бы в стране такой известностью. В столице Японии можно было не спрашивать, где русская духовная миссия, достаточно было сказать одно слово «Николай», и буквально каждый рикша сразу знал, куда нужно было доставить гостя миссии. И православный храм назывался «Николай», и место миссии тоже «Николай», даже само православие называлось «Николай»».
В 1970 г. архиепископ Николай (Касаткин) был канонизирован Русской Православной Церковью, так что по сути дела, эта книга является наиболее полным сборником материалов для составления его жития.
Литература о православии в Японии часть 1
Gwad
16-06-2007 15:54

Предпринимаю попытку краткого обзора книг и материалов, из которых можно узнать о истории православия в Японии и Японской Православной Церкви.
Бесстремянная Г.Е. Христианство и Библия в Японии (в 2 книгах)М;2006
Исследование, посвященное проникновению христианства в Японию и переводам Библии на японский язык. Очень доступно и интересно написанная книга. Автор начинает свой рассказ с истории написания и переводов Библии на славянский, русский и английский языки. Очень кратко и доступно приводится обзор истории Японии и попыток проповеди христианства в ней католиками и протестантами. Масса интереснейшей информации (одно описание диспутов между католиками и буддистами в замке Нобунага чего стоит!).
А вот как, оказывается, была открыта первая в России японская школа: в 1702 г. Пётр 1 встретился с потерпевшим в 1695 г. кораблекрушение на Камчатке осакским купцом Дэмбеем. Дэмбей был обнаружен у камчадалов первооткрывателем Камчатки казачьим пятидесятником Атласовым. Пётр подробно расспросил Дэмбея о его родине, вере, языке и издал указ об открытии при Петербургской морской школе школы японского языка, в которой и стал преподавать Дэмбей, которому помогал еще один заброшенный судьбой в Россию японец – Санима. Японская школа в Петербурге стала первой не только в России, но и во всем мире!
Так появилась та ниточка, которая связала Россию и Японию. Автор пишет о тех японцах, которые первыми приехали в Россию и приняли крещение в православную веру, о плавании фрегата «Паллада» и установлении дипломатических отношений между двумя странами. Но особое внимание в книге уделено двум личностям – святителю Николаю (Касаткину) и его ученику и сподвижнику Павлу Накаи Цугумаро. Именно Цугумаро на протяжении более 30 лет занимался переводом Священного писания и православных богослужебных книг на японский язык.
Накаи Цугумаро родился в Осака 11 июня 1885 г. Отец Накаи был преподавателем конфуцианской школы «Кайтокудо». Именно здесь юный Цугумаро приобрел знания в области японского языка, литературы. философии и каллиграфии.
В возрасте 25 лет Цугумаро принял крещение и получил христианское имя Павел. Он поверил в Христа всем сердцем, стал проповедовать. Его заметил епископ Николай (Касаткин) и сделал своим помощником. Накаи переехал в Токио и всю свою оставшуюся жизнь был бессменным помощником владыки, продолжив переводы даже после его смерти.
И святитель Николай и Павел Цугумаро всю жизнь вели дневники. Автор приводит цитаты и анализирует многие записи, дающие нам уникальную возможность увидеть глазами японца все лингвистические и богословские трудности, с которыми сталкивались переводчики.
В своей книге Г. Бесстремянная касается проблем перевода Библии на японский язык, рассматривает переводы Псалтири, Требника, Служебника, Октоиха, Паремийника, Ирмология и других книг. Вторая книга монографии представляет собой церковнославяно-японский православный словарь.
Здорово, что эта книжка, не смотря на специфичность темы, написана так, что ее интересно читать даже неспециалисту. Однозначно, работа эта заслуживает внимания со стороны всех, кого интересует история православия в Японии и японский язык.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии

Предпринимаю попытку краткого обзора книг и материалов, из которых можно узнать о истории православия в Японии и Японской Православной Церкви.
Бесстремянная Г.Е. Христианство и Библия в Японии (в 2 книгах)М;2006
Исследование, посвященное проникновению христианства в Японию и переводам Библии на японский язык. Очень доступно и интересно написанная книга. Автор начинает свой рассказ с истории написания и переводов Библии на славянский, русский и английский языки. Очень кратко и доступно приводится обзор истории Японии и попыток проповеди христианства в ней католиками и протестантами. Масса интереснейшей информации (одно описание диспутов между католиками и буддистами в замке Нобунага чего стоит!).
А вот как, оказывается, была открыта первая в России японская школа: в 1702 г. Пётр 1 встретился с потерпевшим в 1695 г. кораблекрушение на Камчатке осакским купцом Дэмбеем. Дэмбей был обнаружен у камчадалов первооткрывателем Камчатки казачьим пятидесятником Атласовым. Пётр подробно расспросил Дэмбея о его родине, вере, языке и издал указ об открытии при Петербургской морской школе школы японского языка, в которой и стал преподавать Дэмбей, которому помогал еще один заброшенный судьбой в Россию японец – Санима. Японская школа в Петербурге стала первой не только в России, но и во всем мире!
Так появилась та ниточка, которая связала Россию и Японию. Автор пишет о тех японцах, которые первыми приехали в Россию и приняли крещение в православную веру, о плавании фрегата «Паллада» и установлении дипломатических отношений между двумя странами. Но особое внимание в книге уделено двум личностям – святителю Николаю (Касаткину) и его ученику и сподвижнику Павлу Накаи Цугумаро. Именно Цугумаро на протяжении более 30 лет занимался переводом Священного писания и православных богослужебных книг на японский язык.
Накаи Цугумаро родился в Осака 11 июня 1885 г. Отец Накаи был преподавателем конфуцианской школы «Кайтокудо». Именно здесь юный Цугумаро приобрел знания в области японского языка, литературы. философии и каллиграфии.
В возрасте 25 лет Цугумаро принял крещение и получил христианское имя Павел. Он поверил в Христа всем сердцем, стал проповедовать. Его заметил епископ Николай (Касаткин) и сделал своим помощником. Накаи переехал в Токио и всю свою оставшуюся жизнь был бессменным помощником владыки, продолжив переводы даже после его смерти.
И святитель Николай и Павел Цугумаро всю жизнь вели дневники. Автор приводит цитаты и анализирует многие записи, дающие нам уникальную возможность увидеть глазами японца все лингвистические и богословские трудности, с которыми сталкивались переводчики.
В своей книге Г. Бесстремянная касается проблем перевода Библии на японский язык, рассматривает переводы Псалтири, Требника, Служебника, Октоиха, Паремийника, Ирмология и других книг. Вторая книга монографии представляет собой церковнославяно-японский православный словарь.
Здорово, что эта книжка, не смотря на специфичность темы, написана так, что ее интересно читать даже неспециалисту. Однозначно, работа эта заслуживает внимания со стороны всех, кого интересует история православия в Японии и японский язык.
"Японский Одиссей" из Беларуси
Gwad
31-05-2007 23:05
О русской православной миссии в Японии сегодня написано немало. Ее основатель - митрополит Николай (Касаткин) почитается Русской Православной Церковью как святой (канонизирован в 1970 г.)
Зарождение Японской Православной Церкви - крайне интересная тема. Ведь Япония и Россия - такие разные страны. Но что-то всегда влекло русскую душу под склоны японских гор. И та духовная связь, которая родилась между Николай-до, как называли японцы о. Николая (Касаткина)и его паствой, не утрачена и в наши дни.
К сожалению, история не всегда сохраняет имена тех, кто заслуживает памяти потомков. И сегодня в России и Беларуси фактически неизвестным остается имя верного сподвижника святителя Николая Японского, уроженца Белой Руси Иосифа Антоновича Гашкевича.
ГОШКЕВИЧ Иосиф (Осип) Антонович (1815–1875) — будущий первый Российский императорский консул в Японии, родился в семье сельского священника в Минской губернии (ныне Гомельская область).
В 1839 г. после окончания академии по решению Святейшего Синода зачислен в Российскую духовную миссию в Пекине. 28 декабря 1839 г. отправляется в Китай.
В 1850 г. возвращается из Китая в Санкт-Петербург, назначается драгоманом при Азиатском департаменте МИД.
Летом 1852 г. вице-адмирал Е.Путятин обращается в Азиатский департамент МИД с просьбой откомандировать в его дипломатическую экспедицию двух переводчиков. 7 октября 1852 г. Гошкевич отправляется на фрегате «Паллада» в Японию. На судне знакомится с русским писателем И. Гончаровым — секретарем начальника экспедиции.
Вместе с офицерами фрегата «Паллада» Гошкевич принимает участие в описи берегов Кореи и Русского Приморья (его именем назван залив в Японском море), на острове Сахалин ведет переговоры с японцами, находящимися в Аниве.
Гошкевич в составе дипломатической экспедиции 22 ноября 1854 г. прибывает в японский порт Симода. Спустя три недели в храме Гёкусэндзи началось обсуждение проекта русско-японского трактата.
Японию Гошкевич покинул с группой моряков 2 июля 1855 г. на зафрахтованной бременской шхуне «Грета». 20 июля шхуна «Грета» была остановлена в открытом море английским пароходом «Барракота». Русские офицеры, матросы и дипломат Гошкевич оказались в плену. Возвратился Гошкевич в Санкт-Петербург только спустя девять месяцев, совершив плавание от берегов Японии до английского Портсмута.
Еще будучи в Японии, Гошкевич занялся составлением «Японско-русского словаря». В этой работе ему оказывал помощь Татибана-но Коосай (при крещении — Владимир Иосифович Яматов). В 1857 г. словарь, изданный за казенный счет, увидел свет. За этот труд Гошкевич был удостоен Демидовской премии и золотой медали.
21 декабря 1857 г. высочайшим приказом по гражданскому ведомству советник Гошкевич назначается Российским императорским консулом в Японии, с пребыванием в гор. Хакодатэ. По долгу службы консул оказывал содействие экипажам российских судов, заходивших в Хакодатэ.
За семь лет (1858–1865) пребывания в Хакодатэ Гошкевичу многое удалось сделать. Были построены консульский дом, морской госпиталь, православная церковь, открылась школа русского языка, организовано подсобное хозяйство в деревне Камида. Гошкевич обучал японцев фотографии, шитью одежды европейского покроя, выпечке хлеба, приготовлению молочных продуктов и солений.
В 1865 г., возвращаясь в Россию, Гошкевич позаботился о том, чтобы японские юноши поехали для получения образования в учебные заведения Санкт-Петербурга. Над первой группой учеников, состоявшей из шести человек, Гошкевич шефствовал до ухода в отставку в июле 1867 г.
В ноябре этого же года он покидает Санкт-Петербург, обживается в приобретенном имении Мали Виленской губернии. Здесь Гошкевич продолжает работать над усовершенствованием «Японско-русского словаря», пишет новый исследовательский труд «О корнях японского языка», который будет издан уже после смерти отставного дипломата.
Муниципалитет гор. Хакодатэ тоже не остался в долгу перед первым российским консулом в Японии — в мае 1989 г. здесь был открыт бюст-памятник, созданный народным художником СССР, скульптором Олегом Комовым и переданный безвозмездно городу.
http://www.japantoday.ru/japanaz/g28.shtml
Еще один материал о Иосифе Гашкевиче: http://ioann_kormianskij.cblog.ru/n...0%98%D0%97.html
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
О русской православной миссии в Японии сегодня написано немало. Ее основатель - митрополит Николай (Касаткин) почитается Русской Православной Церковью как святой (канонизирован в 1970 г.)
Зарождение Японской Православной Церкви - крайне интересная тема. Ведь Япония и Россия - такие разные страны. Но что-то всегда влекло русскую душу под склоны японских гор. И та духовная связь, которая родилась между Николай-до, как называли японцы о. Николая (Касаткина)и его паствой, не утрачена и в наши дни.
К сожалению, история не всегда сохраняет имена тех, кто заслуживает памяти потомков. И сегодня в России и Беларуси фактически неизвестным остается имя верного сподвижника святителя Николая Японского, уроженца Белой Руси Иосифа Антоновича Гашкевича.
ГОШКЕВИЧ Иосиф (Осип) Антонович (1815–1875) — будущий первый Российский императорский консул в Японии, родился в семье сельского священника в Минской губернии (ныне Гомельская область).
В 1839 г. после окончания академии по решению Святейшего Синода зачислен в Российскую духовную миссию в Пекине. 28 декабря 1839 г. отправляется в Китай.
В 1850 г. возвращается из Китая в Санкт-Петербург, назначается драгоманом при Азиатском департаменте МИД.
Летом 1852 г. вице-адмирал Е.Путятин обращается в Азиатский департамент МИД с просьбой откомандировать в его дипломатическую экспедицию двух переводчиков. 7 октября 1852 г. Гошкевич отправляется на фрегате «Паллада» в Японию. На судне знакомится с русским писателем И. Гончаровым — секретарем начальника экспедиции.
Вместе с офицерами фрегата «Паллада» Гошкевич принимает участие в описи берегов Кореи и Русского Приморья (его именем назван залив в Японском море), на острове Сахалин ведет переговоры с японцами, находящимися в Аниве.
Гошкевич в составе дипломатической экспедиции 22 ноября 1854 г. прибывает в японский порт Симода. Спустя три недели в храме Гёкусэндзи началось обсуждение проекта русско-японского трактата.
Японию Гошкевич покинул с группой моряков 2 июля 1855 г. на зафрахтованной бременской шхуне «Грета». 20 июля шхуна «Грета» была остановлена в открытом море английским пароходом «Барракота». Русские офицеры, матросы и дипломат Гошкевич оказались в плену. Возвратился Гошкевич в Санкт-Петербург только спустя девять месяцев, совершив плавание от берегов Японии до английского Портсмута.
Еще будучи в Японии, Гошкевич занялся составлением «Японско-русского словаря». В этой работе ему оказывал помощь Татибана-но Коосай (при крещении — Владимир Иосифович Яматов). В 1857 г. словарь, изданный за казенный счет, увидел свет. За этот труд Гошкевич был удостоен Демидовской премии и золотой медали.
21 декабря 1857 г. высочайшим приказом по гражданскому ведомству советник Гошкевич назначается Российским императорским консулом в Японии, с пребыванием в гор. Хакодатэ. По долгу службы консул оказывал содействие экипажам российских судов, заходивших в Хакодатэ.
За семь лет (1858–1865) пребывания в Хакодатэ Гошкевичу многое удалось сделать. Были построены консульский дом, морской госпиталь, православная церковь, открылась школа русского языка, организовано подсобное хозяйство в деревне Камида. Гошкевич обучал японцев фотографии, шитью одежды европейского покроя, выпечке хлеба, приготовлению молочных продуктов и солений.
В 1865 г., возвращаясь в Россию, Гошкевич позаботился о том, чтобы японские юноши поехали для получения образования в учебные заведения Санкт-Петербурга. Над первой группой учеников, состоявшей из шести человек, Гошкевич шефствовал до ухода в отставку в июле 1867 г.
В ноябре этого же года он покидает Санкт-Петербург, обживается в приобретенном имении Мали Виленской губернии. Здесь Гошкевич продолжает работать над усовершенствованием «Японско-русского словаря», пишет новый исследовательский труд «О корнях японского языка», который будет издан уже после смерти отставного дипломата.
Муниципалитет гор. Хакодатэ тоже не остался в долгу перед первым российским консулом в Японии — в мае 1989 г. здесь был открыт бюст-памятник, созданный народным художником СССР, скульптором Олегом Комовым и переданный безвозмездно городу.
http://www.japantoday.ru/japanaz/g28.shtml
Еще один материал о Иосифе Гашкевиче: http://ioann_kormianskij.cblog.ru/n...0%98%D0%97.html
японские поэтессы
Ульса
31-01-2007 17:25
в сообществе ru_japan наконец-то помимо просьб "перевИдИтЯ мне Етот Ероглиф" появилось что-то интересное - обзор самых знаменитых поэтесс древней Японии
http://community.livejournal.com/ru_japan/627759.html
о произведениях некоторых из них упоминалось и у нас.
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
в сообществе ru_japan наконец-то помимо просьб "перевИдИтЯ мне Етот Ероглиф" появилось что-то интересное - обзор самых знаменитых поэтесс древней Японии
http://community.livejournal.com/ru_japan/627759.html
о произведениях некоторых из них упоминалось и у нас.
русалки
Ульса
21-01-2007 22:45
добрый человек gmugr собрал информацию о японских русалках и с картинками вывесил у себя:
"Впервые я столкнулся с русалками в Японии, когда читал мангу Румико Такахаси "Mermaid Saga". Диснеевская русалочка в нашем мозгу построила стереотип о подводных богинях со вторым размером груди и шикарными волосами, которые и под водой не теряют своей пышности. Манга этот стереотип ломает и причём очень жестоко, помню не представлял как возможно было Румико создать образы русалок и иметь такую фантазию, теперь я понимаю как."
читать и смотреть: http://gmugr.livejournal.com/69619.html
комментарии: 3
понравилось!
вверх^
к полной версии
добрый человек gmugr собрал информацию о японских русалках и с картинками вывесил у себя:
"Впервые я столкнулся с русалками в Японии, когда читал мангу Румико Такахаси "Mermaid Saga". Диснеевская русалочка в нашем мозгу построила стереотип о подводных богинях со вторым размером груди и шикарными волосами, которые и под водой не теряют своей пышности. Манга этот стереотип ломает и причём очень жестоко, помню не представлял как возможно было Румико создать образы русалок и иметь такую фантазию, теперь я понимаю как."
читать и смотреть: http://gmugr.livejournal.com/69619.html
а жизнь идет
Ульса
16-01-2007 20:10
вот тут человек делится опытом работы на зарубежное представительство японской компании. Страх, с позволения сказать, и трепет в русской версии.
комментарии: 5
понравилось!
вверх^
к полной версии
вот тут человек делится опытом работы на зарубежное представительство японской компании. Страх, с позволения сказать, и трепет в русской версии.
сайт о любви к Японии
Ульса
14-10-2006 11:05
Новая ссылка в коллекции:
в библиотеке все те тексты, с которых стоит начать свою японскую полку.
комментарии: 2
понравилось!
вверх^
к полной версии
Новая ссылка в коллекции:
japan.smitana.ru
замечательная библиотека книг об истории Японии, в основном, военной, изображения и история самураев
Ключи: япония [Сохранить ссылку себе]
в библиотеке все те тексты, с которых стоит начать свою японскую полку.
словарь
Ульса
08-09-2006 14:38
на яндексе много полезных словарей, а недавно появился еще и словарь Япония от А до Я по материалам сайта Япония Сегодня. Так что, как забыли, что такое гэта, так сразу теперь туда.
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
на яндексе много полезных словарей, а недавно появился еще и словарь Япония от А до Я по материалам сайта Япония Сегодня. Так что, как забыли, что такое гэта, так сразу теперь туда.
Рю Мураками «69»
Сканни
21-07-2006 22:25
Говорят: «Если вы чего-то не нашли в книгах Харуки, читайте об этом у Рю».
Рю, не родственник, не друг и не враг Харуки – эдакий хулиган от японской литературы, не следующий ее традициям. Пишет легко и непринужденно. Всегда имеет полный набор – наркота, секс, насилие. Помню, как меня это поразило в «Меланхолии».
Жизнь японского подростка конца 60-х (свингующих 60-х, о да), который мечтает стряхнуть рутину жизни с себя, мечтает перевернуть мир, немножко бунтует, но по большей части просто делает вид, что он все знает – это самое то для «внеклассного чтения». Ради первой любви (а может и не первой) он становится бунтарем, украшает школу революционными лозунгами – и да, акция удается, его Леди Джейн смотрит на него, как на божество. Чего не сделаешь ради любви, юношеской, пылкой, но, увы, быстро проходящей, как весенний дождь. Атрибуты, необходимые для создания атмосферы, присутствуют – хэппенинг, драки, переживания и разглагольствования, придающие необходимый лоск простому старшекласснику.
комментарии: 4
понравилось!
вверх^
к полной версии
Говорят: «Если вы чего-то не нашли в книгах Харуки, читайте об этом у Рю».
Рю, не родственник, не друг и не враг Харуки – эдакий хулиган от японской литературы, не следующий ее традициям. Пишет легко и непринужденно. Всегда имеет полный набор – наркота, секс, насилие. Помню, как меня это поразило в «Меланхолии».
Жизнь японского подростка конца 60-х (свингующих 60-х, о да), который мечтает стряхнуть рутину жизни с себя, мечтает перевернуть мир, немножко бунтует, но по большей части просто делает вид, что он все знает – это самое то для «внеклассного чтения». Ради первой любви (а может и не первой) он становится бунтарем, украшает школу революционными лозунгами – и да, акция удается, его Леди Джейн смотрит на него, как на божество. Чего не сделаешь ради любви, юношеской, пылкой, но, увы, быстро проходящей, как весенний дождь. Атрибуты, необходимые для создания атмосферы, присутствуют – хэппенинг, драки, переживания и разглагольствования, придающие необходимый лоск простому старшекласснику.
Сюсаку Эндо «Самурай»
Сканни
21-07-2006 22:23
 [175x291]
[175x291]
Первое впечатление после прочитанного: Kill da invaders! Правильно сёгун сделал, что перерезал всех хреновых миссионеров. Поналезли тут…
Ну а теперь по-научному. Сюсаку Эндо – знаменитый японский писатель, чье творчество посвящено изучению взаимоотношений востока и запада. Точнее, было посвящено, так как он скончался в 1996 году.
Его выдвигали на соискание Нобелевской премии и выбирали президентом японского отделения ПЕН-клуба. «Самурай» (1980 год) – вершина его позднего творчества. Основан на реальных событиях 1613 – 1620 годов и повествует о совместной экспедиции японских самураев и католических миссионеров.
Сюжет примерно таков: один очень честолюбивый миссионер из ордена Святого Франциска мечтает стать епископом назло козням иезуитов, сёгуны и даймё используют его для своих целей, ну и под горячую руку этой мерзкой компашке попадается пара-тройка самураев низкого звания, которых отправялют с официальной миссией к королю Испании. В случае успеха им обещают вернуть утраченные родовые земли кланов. Ну и разумеется, ничего-то у них не выходит. Более того, возвращаются они в Японию, озадаченные тем, делать ли себе харакири от позора при мысли о невыполненной миссии, а тут им нате-здрасте: «Мы вообще ничего такого не хотели, а вы, за то что христианство приняли, вообще головы лишитесь». Ну и самураи принимают это с истинно восточным спокойствием. «По крайней мере, мой клан будет жить» - говорит главный герой - самурай Рокуэмон Хасэкура. Он, как и его крестьяне, пахнет землей и с гораздо большей сноровкой орудует серпом, чем мечом. Задача Самурая - Служить Господину, что он и делает, отправляясь с дипломатической миссией в Европу, с «подпиской о невыезде» домой, с нательным крестом на костер.
Христианский миссионер Веласко фанатичен, питается протухшей рыбой и мечтает стать архиепископом Японии. Задача Миссионера – Служить Господу, что он и делает, отправляясь с дипломатической миссией в Европу, с «подпиской о невыезде» домой, с нательным крестом на костер.
Удачно чередуются в книге главы, где события описываются с позиции самураев, и с позиции католического священника, что позволяет глубже проникнуть в смысл конфликта между религиями и вообще этими двумя мирами, несовместимыми настолько, насколько могут быть несовместимы страны разных концов света.
Советую читать людям, увлеченным накрепко историей Японии, а также тем, кто не боится тяжелого слога.
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
 [175x291]
[175x291]Первое впечатление после прочитанного: Kill da invaders! Правильно сёгун сделал, что перерезал всех хреновых миссионеров. Поналезли тут…
Ну а теперь по-научному. Сюсаку Эндо – знаменитый японский писатель, чье творчество посвящено изучению взаимоотношений востока и запада. Точнее, было посвящено, так как он скончался в 1996 году.
Его выдвигали на соискание Нобелевской премии и выбирали президентом японского отделения ПЕН-клуба. «Самурай» (1980 год) – вершина его позднего творчества. Основан на реальных событиях 1613 – 1620 годов и повествует о совместной экспедиции японских самураев и католических миссионеров.
Сюжет примерно таков: один очень честолюбивый миссионер из ордена Святого Франциска мечтает стать епископом назло козням иезуитов, сёгуны и даймё используют его для своих целей, ну и под горячую руку этой мерзкой компашке попадается пара-тройка самураев низкого звания, которых отправялют с официальной миссией к королю Испании. В случае успеха им обещают вернуть утраченные родовые земли кланов. Ну и разумеется, ничего-то у них не выходит. Более того, возвращаются они в Японию, озадаченные тем, делать ли себе харакири от позора при мысли о невыполненной миссии, а тут им нате-здрасте: «Мы вообще ничего такого не хотели, а вы, за то что христианство приняли, вообще головы лишитесь». Ну и самураи принимают это с истинно восточным спокойствием. «По крайней мере, мой клан будет жить» - говорит главный герой - самурай Рокуэмон Хасэкура. Он, как и его крестьяне, пахнет землей и с гораздо большей сноровкой орудует серпом, чем мечом. Задача Самурая - Служить Господину, что он и делает, отправляясь с дипломатической миссией в Европу, с «подпиской о невыезде» домой, с нательным крестом на костер.
Христианский миссионер Веласко фанатичен, питается протухшей рыбой и мечтает стать архиепископом Японии. Задача Миссионера – Служить Господу, что он и делает, отправляясь с дипломатической миссией в Европу, с «подпиской о невыезде» домой, с нательным крестом на костер.
Удачно чередуются в книге главы, где события описываются с позиции самураев, и с позиции католического священника, что позволяет глубже проникнуть в смысл конфликта между религиями и вообще этими двумя мирами, несовместимыми настолько, насколько могут быть несовместимы страны разных концов света.
Советую читать людям, увлеченным накрепко историей Японии, а также тем, кто не боится тяжелого слога.
Сэйси Ёкомидзо «Клан Инугами»
Сканни
21-07-2006 22:21
 [200x311]
[200x311]
Ярко-желтая жизнерадостная обложка с надутой красоткой привлекла меня – и вот, книга из серии «Лекарство от скуки» в моих руках. Составитель Борис Акунин, «серьезный подход к несерьезному жанру», многообещающие отзывы.
Вышел роман в 1976 году и положил начало серии популярных в Японии детективов о частном сыщике Киндаити. У французов есть Сименон, у поляков – Хмелевская, ну а у японцев, значит, Ёкомидзо. Перенятый у запада жанр мистического детектива удачно наложился на японский менталитет, в общем и целом, и на особенности японской литературы – все то же отточенное мастерство, та же детальность описания событий. Сюжет, надо сказать, жутко традиционен – богатый дядя умер, наследники передрались, наследники померли. Японский символизм находит отражение в способах убийства, по большей части. Как в любом хорошем детективе – только на последней странице узнаешь, что убийца – дворецкий.
Кстати, если вы не имеете представления о театре кабуки – то многие вещи вам покажутся натянутыми или наивными. И вы наверняка не поймете, почему Киндаити то и дело «пробирает холодок» или «мурашки бегут по телу». В принципе, книгу от второсортности и звания легкого чтива спасает именно экзотичность – и кабуки, и уважение к старшим, и благодарность, и сдержанность, свойственная этому восточному народу. По мере прочтения к этому, конечно, привыкаешь. Порадовалась я на переводчиков – что не потеряли игру слов, на которой основана завязка сюжета.
Но в целом, скажу я вам, читать лучше детективы классической английской школы. Ибо из подражания у Ёкомидзо… гм… скажем так, мало что вышло.
комментарии: 2
понравилось!
вверх^
к полной версии
 [200x311]
[200x311]Ярко-желтая жизнерадостная обложка с надутой красоткой привлекла меня – и вот, книга из серии «Лекарство от скуки» в моих руках. Составитель Борис Акунин, «серьезный подход к несерьезному жанру», многообещающие отзывы.
Вышел роман в 1976 году и положил начало серии популярных в Японии детективов о частном сыщике Киндаити. У французов есть Сименон, у поляков – Хмелевская, ну а у японцев, значит, Ёкомидзо. Перенятый у запада жанр мистического детектива удачно наложился на японский менталитет, в общем и целом, и на особенности японской литературы – все то же отточенное мастерство, та же детальность описания событий. Сюжет, надо сказать, жутко традиционен – богатый дядя умер, наследники передрались, наследники померли. Японский символизм находит отражение в способах убийства, по большей части. Как в любом хорошем детективе – только на последней странице узнаешь, что убийца – дворецкий.
Кстати, если вы не имеете представления о театре кабуки – то многие вещи вам покажутся натянутыми или наивными. И вы наверняка не поймете, почему Киндаити то и дело «пробирает холодок» или «мурашки бегут по телу». В принципе, книгу от второсортности и звания легкого чтива спасает именно экзотичность – и кабуки, и уважение к старшим, и благодарность, и сдержанность, свойственная этому восточному народу. По мере прочтения к этому, конечно, привыкаешь. Порадовалась я на переводчиков – что не потеряли игру слов, на которой основана завязка сюжета.
Но в целом, скажу я вам, читать лучше детективы классической английской школы. Ибо из подражания у Ёкомидзо… гм… скажем так, мало что вышло.
Кайко Такэси
Сканни
17-07-2006 20:24
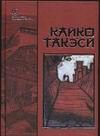
Японская литература расплодилась по всем магазинам в невиданных количествах, и благодаря этому я пользуюсь случаем, и время от времени закупаю разных японских писателей – оба Мураками уже набили оскомину, поэтому хочется ознакомиться и с другими произведениями японской прозы.
+/по совести говоря, мне ужасно стыдно, что одна только Ульса сюда пишет, но я буду исправляться, честно-честно\+
И вот набрела я на книгу Такэси, где содержатся 2 произведения – «Горькое похмелье» и «Японская трехгрошовая опера». Оба, как сказано в аннотации – ярчайшие отражения творчества писателя.
Такэси родился в 1930 году в Осаке, и большинство действий своих романов разворачивал именно там – любил свой город.
Его романы, в отличие от тех же Мураками, издавались в СССР, потому как он был «левым», ну, и, соответственно, советские критики его хвалили за «нетерпимость к буржуазии».
Однако, перейдем к сюжету.
«Горькое похмелье» написан от лица юноши, чья молодость совпала с Второй мировой и послевоенной разрухой. Последние дни безнадежной войны (как известно, Япония занимала позицию, совпадающую с взглядами и чаяниями нацисткой Германии) оставили тяжелый след на всей нации, но трудолюбивые японцы удивительно быстро восстановили разруху, кстати. Может, благодаря демократическим реформам, навязанным Америкой.
Герои романа подавлены нищетой и безысходностью, и большое значение уделяется рефлексии главного героя. Немного, конечно, бессмысленной, на мой взгляд, ибо я считаю, что надо действовать даже в случае неудачи, а не переживать свое неприятие окружающего мира.
В чем-то характеры героев (даже второстепенных – и выписанных с большой тщательностью) – схожи с героями Ремарка – та же надломленность, неспособность выжить в новом для них мире, разочарование от унижения и бессмысленных страданий и жертв.
Просто описание «какой-то жизни», «какого-то существования» даже. Они существуют, эти герои, их юношеский максимализм убывает с каждым днем, радужные мечты разрушаются, и они довольствуются тем, что есть – и, видимо, отсюда идет название – от осознания, что вся эта жизнь… ну просто «какая-то жизнь». Совсем не такая, какую хотелось бы иметь.
Второй роман – куда более интересен с точки зрения раскрытия образа низшей прослойки японского общества. Трущобы, бедняки, послевоенное тяжелое время – и вся их жизнь, связанная с огромной свалкой железного хлама, по счастью, плохо охраняемого – как, впрочем, и все гос. имущество, скажем у нас. Отвратительная жизнь, люди и взаимоотношения, описанные Такэси (это в привычке у всех японцев) – с поразительной дотошностью. Я думаю, именно с этой точки зрения и интересны его романы, ну и с точки зрения исторической ценности.
Антипод прекрасной стороны японской культуры – как они с очаровательной точностью описывают полет птицы, лепестки хризантемы и журчание ручья – так и с такой же точностью описывают кучи отходов, уродливую внешность и пейзажи трущоб. Меня это всегда в японских писателях поражало.
Да, вернемся, однако, к сюжету. Как и всякое уродство – свалка не смогла просуществовать долго – и поселок бродяг, кормящихся доходами от нее – просто рассыпался как карточный домик. Интересна, кстати, параллель, о которой упоминается по ходу сюжета – название бродяг – «апаши» ассоциируется с индейским племенем Америки, а также с деклассированной молодежью, живущей в Париже, и называющей себя точно так же.
Подводя черту, можно сказать, что читать Такэси однозначно стоит, как раз из-за того, о чем я упомянула выше – из-за диковинной для Японии (с ее-то многовековым культом красоты!) манеры изображения безобразного, своеобразного знака минуса рядом со словами «Культ Прекрасного».
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
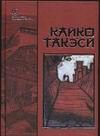
Японская литература расплодилась по всем магазинам в невиданных количествах, и благодаря этому я пользуюсь случаем, и время от времени закупаю разных японских писателей – оба Мураками уже набили оскомину, поэтому хочется ознакомиться и с другими произведениями японской прозы.
+/по совести говоря, мне ужасно стыдно, что одна только Ульса сюда пишет, но я буду исправляться, честно-честно\+
И вот набрела я на книгу Такэси, где содержатся 2 произведения – «Горькое похмелье» и «Японская трехгрошовая опера». Оба, как сказано в аннотации – ярчайшие отражения творчества писателя.
Такэси родился в 1930 году в Осаке, и большинство действий своих романов разворачивал именно там – любил свой город.
Его романы, в отличие от тех же Мураками, издавались в СССР, потому как он был «левым», ну, и, соответственно, советские критики его хвалили за «нетерпимость к буржуазии».
Однако, перейдем к сюжету.
«Горькое похмелье» написан от лица юноши, чья молодость совпала с Второй мировой и послевоенной разрухой. Последние дни безнадежной войны (как известно, Япония занимала позицию, совпадающую с взглядами и чаяниями нацисткой Германии) оставили тяжелый след на всей нации, но трудолюбивые японцы удивительно быстро восстановили разруху, кстати. Может, благодаря демократическим реформам, навязанным Америкой.
Герои романа подавлены нищетой и безысходностью, и большое значение уделяется рефлексии главного героя. Немного, конечно, бессмысленной, на мой взгляд, ибо я считаю, что надо действовать даже в случае неудачи, а не переживать свое неприятие окружающего мира.
В чем-то характеры героев (даже второстепенных – и выписанных с большой тщательностью) – схожи с героями Ремарка – та же надломленность, неспособность выжить в новом для них мире, разочарование от унижения и бессмысленных страданий и жертв.
Просто описание «какой-то жизни», «какого-то существования» даже. Они существуют, эти герои, их юношеский максимализм убывает с каждым днем, радужные мечты разрушаются, и они довольствуются тем, что есть – и, видимо, отсюда идет название – от осознания, что вся эта жизнь… ну просто «какая-то жизнь». Совсем не такая, какую хотелось бы иметь.
Второй роман – куда более интересен с точки зрения раскрытия образа низшей прослойки японского общества. Трущобы, бедняки, послевоенное тяжелое время – и вся их жизнь, связанная с огромной свалкой железного хлама, по счастью, плохо охраняемого – как, впрочем, и все гос. имущество, скажем у нас. Отвратительная жизнь, люди и взаимоотношения, описанные Такэси (это в привычке у всех японцев) – с поразительной дотошностью. Я думаю, именно с этой точки зрения и интересны его романы, ну и с точки зрения исторической ценности.
Антипод прекрасной стороны японской культуры – как они с очаровательной точностью описывают полет птицы, лепестки хризантемы и журчание ручья – так и с такой же точностью описывают кучи отходов, уродливую внешность и пейзажи трущоб. Меня это всегда в японских писателях поражало.
Да, вернемся, однако, к сюжету. Как и всякое уродство – свалка не смогла просуществовать долго – и поселок бродяг, кормящихся доходами от нее – просто рассыпался как карточный домик. Интересна, кстати, параллель, о которой упоминается по ходу сюжета – название бродяг – «апаши» ассоциируется с индейским племенем Америки, а также с деклассированной молодежью, живущей в Париже, и называющей себя точно так же.
Подводя черту, можно сказать, что читать Такэси однозначно стоит, как раз из-за того, о чем я упомянула выше – из-за диковинной для Японии (с ее-то многовековым культом красоты!) манеры изображения безобразного, своеобразного знака минуса рядом со словами «Культ Прекрасного».
М. Герасимова - Киотоский альбом
Ульса
16-07-2006 22:44
 [200x311]
[200x311]
На самом деле, иллюстраций в книге маловато. Я бы скорее назвала это "история Киото" или "Прогулка по Киото". Последнее было бы ближе всего к истине. История города, его знаменитые кварталы и храмы, праздники и традиционные ремесла - примерно об этом и рассказывают на экскурсиях, только в книге все гораздо подробнее и всегда можно пролистать страницы в обе стороны.
Написано интересно и легко читается. В среднем книга обойдется от 150 до 200 р., что по-моему, вполне стоит воображаемой прогулки с опытным гидом.
купить
комментарии: 2
понравилось!
вверх^
к полной версии
 [200x311]
[200x311]На самом деле, иллюстраций в книге маловато. Я бы скорее назвала это "история Киото" или "Прогулка по Киото". Последнее было бы ближе всего к истине. История города, его знаменитые кварталы и храмы, праздники и традиционные ремесла - примерно об этом и рассказывают на экскурсиях, только в книге все гораздо подробнее и всегда можно пролистать страницы в обе стороны.
Написано интересно и легко читается. В среднем книга обойдется от 150 до 200 р., что по-моему, вполне стоит воображаемой прогулки с опытным гидом.
купить
Д. Г. Главлеева - Традиционная японская культура: специфика мировосприятия
Ульса
16-07-2006 22:16
 [152x240]
[152x240]
Книга для подготовленного читателя.
Как синтоизм и буддизм повлияли на видение мира японцами, особенности восприятия времени и пространства, внутренний взгляд в дзен-буддизме и много справочного материала - ко всему этому лучше приступать после знакомства с более популярными источниками.
Форма изложения иногда мешает восприятию - уж очень сухо пишет автор об увлекательных вещах. Но настоящего поклонника страны восходящего солнца это не испугает ;-)
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
 [152x240]
[152x240]Книга для подготовленного читателя.
Как синтоизм и буддизм повлияли на видение мира японцами, особенности восприятия времени и пространства, внутренний взгляд в дзен-буддизме и много справочного материала - ко всему этому лучше приступать после знакомства с более популярными источниками.
Форма изложения иногда мешает восприятию - уж очень сухо пишет автор об увлекательных вещах. Но настоящего поклонника страны восходящего солнца это не испугает ;-)
500 знаменитых японцев
Ульса
11-06-2006 22:52

500 знаменитых японцев. Биографический справочник
Издательство: Япония сегодня, 2003 г.
замечательная книга, можно читать ее от начала до конца, а можно доставать с полки, если в голове крутится какая-то японская фамилия, а чья она вы в упор вспомнить не можете.
500 биографических статей самой разной длинны о людях самых разных профессий и эпох: от древних поэтов до основателей корпораций, драматурги, актеры, мастера различных ремесел, политики - люди, которые сделали Японию такой, какой она вошла в 21 век.
На мой взгляд, это один из самых занимательных способов изучать историю.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии

500 знаменитых японцев. Биографический справочник
Издательство: Япония сегодня, 2003 г.
замечательная книга, можно читать ее от начала до конца, а можно доставать с полки, если в голове крутится какая-то японская фамилия, а чья она вы в упор вспомнить не можете.
500 биографических статей самой разной длинны о людях самых разных профессий и эпох: от древних поэтов до основателей корпораций, драматурги, актеры, мастера различных ремесел, политики - люди, которые сделали Японию такой, какой она вошла в 21 век.
На мой взгляд, это один из самых занимательных способов изучать историю.
А. Мещеряков "Книга японских символов"
Ульса
02-05-2006 19:03
 [200x304]
[200x304]
Мещеряков А. Н.
Книга японских символов
Наталис 2007 в серии "Восточная коллекция"
цитата:
...для каждого пространства — своя особая обувь. Потому что с пересечением порога другого мира вы должны каким-то образом на это отреагировать. Это убеждение настолько прочно вошло в японскую кровь, что их самоубийцы, прежде чем перейти в мир иной, обувь обязательно снимают. Это настолько привычно, что если вдруг на трупе обнаружены ботинки, то это считается для полиции достаточным основанием заподозрить, что она имеет дело со случаем насильственной смерти...
разумеется, книгу, из которой можно узнать такие интересные вещи, обязательно нужно прочитать!
полностью главой о банях можно насладиться здесь
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
 [200x304]
[200x304]Мещеряков А. Н.
Книга японских символов
Наталис 2007 в серии "Восточная коллекция"
цитата:
...для каждого пространства — своя особая обувь. Потому что с пересечением порога другого мира вы должны каким-то образом на это отреагировать. Это убеждение настолько прочно вошло в японскую кровь, что их самоубийцы, прежде чем перейти в мир иной, обувь обязательно снимают. Это настолько привычно, что если вдруг на трупе обнаружены ботинки, то это считается для полиции достаточным основанием заподозрить, что она имеет дело со случаем насильственной смерти...
разумеется, книгу, из которой можно узнать такие интересные вещи, обязательно нужно прочитать!
полностью главой о банях можно насладиться здесь
для тех, кто не учит японский
Ульса
29-03-2006 17:22
Новая ссылка в коллекции:
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Новая ссылка в коллекции:
переводчик веб-страниц с японского на английский
переводит достаточно косо, с пропуском символов и никакой грамматикой, но и это лучше, чем ничего
Ключи: япония [Сохранить ссылку себе]
Удар Солнца или гири – чувство чести
Ульса
20-03-2006 23:39
 [200x290]
[200x290]
Сборник выпущен издательством «Летний сад» в серии «Восточная коллекция» в 1999 году и является перепечаткой статей русских японоведов, впервые появившихся в начале 20 века. Все статьи были подготовлены сотрудниками кафедры японоведения Восточного института (Владивосток) и посвящены, в основном, обычаям и истории «военного дворянства» (т.е. самураев).
Составители отобрали статьи и расположили их в том порядке, который, на их взгляд, позволяет через описание церемонии сэппуку, поступка «47 верных вассалов», рассуждения о роли конфуцианства и пути воина, через разбор «центрального солярного мифа» об Аматерасу и ее извлечении из грота, наилучшим образом раскрыть ту часть национального характера японцев, которая связана с понятием чувства долга, вынесенным в заглавие сборника.
Насколько это удалось, судить читателю, но подборка получилась интересная. Не говоря уж о том, что другой возможности познакомиться с этими статьями у многих читателей могло бы и не быть.
Помимо принципов отбора и композиции материала издание интересно тем, что чтение следует начинать с правой обложки, а страницы внутри подготавливают к восприятию экзотического содержимого экзотическим же положением текста – вертикальным на развороте, а не привычным горизонтальным. К сожалению, обложка у этого pocket-book клееная, и черно-белые иллюстрации нельзя назвать качественными.
Прочитав книгу, вы получите бесценные практические знания:
- чем отличается церемония во дворце от церемонии в саду
- как следует приветствовать цензоров
- циновки какого цвета и размера необходимы для сэппуку
- в каких случаях можно подать осужденному письменный прибор, а в каких нет
- какие три момента удобнее всего для отсечения головы
- где кайсяку полагается держать белую бумагу и кто это вообще такой
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
 [200x290]
[200x290]Сборник выпущен издательством «Летний сад» в серии «Восточная коллекция» в 1999 году и является перепечаткой статей русских японоведов, впервые появившихся в начале 20 века. Все статьи были подготовлены сотрудниками кафедры японоведения Восточного института (Владивосток) и посвящены, в основном, обычаям и истории «военного дворянства» (т.е. самураев).
Составители отобрали статьи и расположили их в том порядке, который, на их взгляд, позволяет через описание церемонии сэппуку, поступка «47 верных вассалов», рассуждения о роли конфуцианства и пути воина, через разбор «центрального солярного мифа» об Аматерасу и ее извлечении из грота, наилучшим образом раскрыть ту часть национального характера японцев, которая связана с понятием чувства долга, вынесенным в заглавие сборника.
Насколько это удалось, судить читателю, но подборка получилась интересная. Не говоря уж о том, что другой возможности познакомиться с этими статьями у многих читателей могло бы и не быть.
Помимо принципов отбора и композиции материала издание интересно тем, что чтение следует начинать с правой обложки, а страницы внутри подготавливают к восприятию экзотического содержимого экзотическим же положением текста – вертикальным на развороте, а не привычным горизонтальным. К сожалению, обложка у этого pocket-book клееная, и черно-белые иллюстрации нельзя назвать качественными.
Прочитав книгу, вы получите бесценные практические знания:
- чем отличается церемония во дворце от церемонии в саду
- как следует приветствовать цензоров
- циновки какого цвета и размера необходимы для сэппуку
- в каких случаях можно подать осужденному письменный прибор, а в каких нет
- какие три момента удобнее всего для отсечения головы
- где кайсяку полагается держать белую бумагу и кто это вообще такой
Библиотека самурая
Ульса
13-02-2006 17:54

интересующиеся военной историей могут посетить библиотеку http://www.fido.sakhalin.ru/wayofsword/projects/japan/samurai.htm
Не только ради двух книг, указанных в предыдущем посте, но и для того, чтобы почитать “5колец” Миямото Мусаси, очерки по японской военной истории и специальные статьи, посвященные японскому доспеху, оружию и школам боевых искусств.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии

интересующиеся военной историей могут посетить библиотеку http://www.fido.sakhalin.ru/wayofsword/projects/japan/samurai.htm
Не только ради двух книг, указанных в предыдущем посте, но и для того, чтобы почитать “5колец” Миямото Мусаси, очерки по японской военной истории и специальные статьи, посвященные японскому доспеху, оружию и школам боевых искусств.