«СМЕТАНА ПОДАВЛЯЕТ ВОЛЮ ЖЕРТВЫ»
5 минут
27,6 тыс прочтений
21 августа 2024
...Человек смотрел на селёдку под шубой, как девочка на кобру.
— Я не буду ЭТО есть.
— Почему?
— Она живая.
— О чём ты? Она уже давно померла и засолена.
Гость мнётся. Я сразу понимаю, отчего учившиеся в Москве вьетнамцы жарили селёдку, распространяя по общагам тошнотворный запах. У них спокойно едят сырую рыбу, но вот сырая солёная — им непривычно. Эдакое извращённое сашими. Дипломат из Малайзии, которого я угощал в ресторане русской кухней, так и не смог себя пересилить. Мне всегда забавно смотреть, как иностранцы пробуют привычные нам, но экзотические для них русские блюда. Кому-то ужаснейше нравится с первого укуса, а кто-то горестно всю командировку в дремучую Россию исключительно на суши и гамбургерах держится.
Кстати, на удивление, зловещую селёдку под шубой не только в Азии, но и в Южной Европе местные жители считают творением демонов. Ладно ещё азиаты, у них вкус специфический. Однако же, я наблюдал и вполне себе итальянцев с греками, кои при виде популярного у нас салата крестились и чуть ли не норовили полить его святой водой. «Шуба» заходит в основном скандинавам, их селёдкой не испугаешь — да и говорят, корни сего салата, появившегося в СССР в семидесятых годах, шведские либо норвежские. «Вот ты сам подумай», — сказал мне японский журналист в Таджикистане, говоривший по-русски, как мы с вами. — «Это жертвоприношение. Мёртвая солёная рыба погребена в майонезе, среди картофеля, моркови и яиц. Наверное, ваши языческие предки приносили это злым богам». Я в ответ патриотично наехал на суши, но в глубине души задумался.
Безусловный лидер — оливье. И с колбасой, и с курицей, и с мясом. Он завоёвывает желудки гостей России не глядя, делая их своими жалкими рабами, аки самая прекрасная в мире голая фотомодель. Оливье на моей памяти безумно восторгались китайцы, хотя сперва приступали к поглощению осторожно, ожидая подвоха. Ему поклонялись немцы, англичане и индусы. Кто-то хотел меньше майонеза. Кто-то предпочитал курицу вместо колбасы. Но покорены были все. Повар Люсьен Оливье, чьё изобретение мы постоянно вкушаем на Новый год и вне него, находясь в раю (ибо куда ещё он мог попасть?) чрезвычайно доволен. Почему? О, есть маленький секрет. Оливье под названием «русский салат» широко распространён во всём мире. Аж в горах Непала встречал. Но НИГДЕ его не готовят правильно. В Испании это было кулинарное чудовище из картошки, моркови и болгарского перца. В Германии — тупо картофель, йогурт (!) и свинина. В Польше вообще что-то страшное, символизирующее тьму угнетения поляков Российской империей. Иностранцы едут в Россию, ожидая сущее убожество, а им приносят майонезное счастье с курицей. Надо Байдену тайком оливье прислать, глядишь, вкусит и душой подобреет.
Как ни странно, неоднозначны мнения про борщ. Да, армия фанатов многочисленна — я лицезрел семью пакистанского дипломата — его самого, жену и дочь, каковые целой группой без зазрения совести страстно отдавались борщу. Конечно, они заказывали его с говядиной (по причине мусульманства), и когда к супу полагался чёрный хлеб и сало, с умильной кротостью просили таковые не приносить. Пакистанцы кушали борщ зажмурившись, улыбаясь и чмокая, и не уставали от него никогда. Далее, я наблюдал, как девушка, работник китайского посольства, первый раз в жизни ела борщ. Сначала её напугало, что он красный. Она долго не решалась притронуться — видимо, боясь, что сие кровавый суп вампиров из Трансильвании. Но едва слизала чуть с ложки — всё, её было не остановить. Она готова была нырнуть в борщ, и плавать в нём — тем паче, что китайцев сало не смущает. Странно, но борща побаивались отдельные встреченные мной американцы. Даже в комедии «Полицейская академия: миссия в Москве» есть момент, где коменданта Лассарда угощают борщом, а тот выливает деликатес в мусорку. Нет, Лассарда после этого не убивают — хотя и не сомневаюсь, что желание возникло у всех.
Несомненный хит наравне с оливье — блины. О, они сражают заграничных гурманов поголовно, особенно вкупе с красной икрой и со сметаной. Я знавал людей из Китая и Франции, повернувшихся на блинах. Они потом жить без них не могли, а масленицу считали сошествием на землю ангелов. Кстати, о лососевой икре. С чёрной-то понятно — нынче она деликатес, стоящий чуть менее, чем до хрена. Но и по красной мнения у иностранцев сумбурны. Жена малайского дипломата в сыром виде икру есть пугалась, и пыталась сварить её или запечь. Естественно, получился ужас ужасный. Европейцы широко осведомлены о люксовой осетровой икре, лососевая же есть у финнов, но не так, чтобы повсеместно. Совсем недавно я встретил американскую (!) красную икру в гордой Литве — нашу, как я понимаю, они по причине излишней любви к нам не покупают. «И как?» — вежливо осведомился я. «Как дерьмо собачье» — не менее вежливо ответили мне. Казалось бы, лосось есть везде, и удивлять он особо не должен. Но и в Азии, и в Европе к икре отношение настороженное. Да, могут попробовать
"Он создал у нас охоту к чтению"
6 минут
338 прочтений
4 сентября 2024
Опять сравнение не в нашу пользу? Но что поделаешь? Восемнадцатый век знал только двух поборников Просвещения-типографщиков, которые заботились не просто о проникновении КНИГИ в самые глухие уголки страны, но и о том, чтобы дать читателям лучшие образцы литературы, как современной, так и проверенной временем.
Имя одного из них - Бенджамин Франклин. Это его портрет на стодолларовой купюре, хотя президентом Франклин не был. Это - дань уважения одному из отцов нации, учёному, просветителю. И между прочим, масону.
Другой - Новиков Николай Иванович. Знаем, что был такой - и всё... Обычно его имя вспоминают, когда хотят "уличить" Екатерину Вторую в лицемерии: переписывалась с просветителями, а крупнейшего деятеля нашего Просвещения ... посадила!
Может быть, ещё вспомним, что именно Новиков стоял у истоков детской литературы, создал целый научно-популярный журнал для детей, не терявший своей ценности на протяжении столетия. И между прочим, он тоже масон.
Говорить о масонстве можно бесконечно, но тайной эта организация тогда была, очевидно, лишь потому что враждебна любой монархии. Странно, ведь в неё входили, главным образом, аристократы? Да, но эти умники не собирались никого свергать сию минуту, они мечтали распространить свет разума настолько, чтобы огромное большинство людей согласилось: во главе государств должны стоять ФИЛОСОФЫ! А в идеале, лучшие умы человечества и должны составить мировое правительство... когда - нибудь. Это - дело будущих поколений. Сегодняшняя задача - духовно расти самим и помогать в этом другим.
А если к высоким целям ещё и таинственность, ритуалы, секреты, которые надо хранить от случайных людей, и перстни, по которым в любой стране узнаешь своих? Да кому же не захочется вступить в круг таких Людей Будущего?
И по разные стороны океана задачи были общими.
Начало жизни Новикова было обыкновенно - необыкновенна эпоха. Будущий просветитель был сыном офицера петровского призыва, человека прямого и честного. Но и у честных офицеров было в обычае записывать сыновей в полки ещё младенцами, вот и Николай, восемнадцатилетний унтер, был отмечен в день воцарения Екатерины Второй: охранял дворец.
Через пять лет ближе познакомился с императрицей: был назначен секретарём в Уложенную комиссию. Речь шла об отмене крепостного права!
Мы знаем, императрица ужаснулась масштабу проблем, стоящих перед страной, и... не решилась. Занялась прежде всего внешней политикой. Но секретарь уже составлял план своих собственных действий. Того, что под силу ЕМУ.
Начал с переводов французских повестей, но уже в двадцать пять лет выпустил свой первый журнал "Трутень". В лёгкой сатирической форме, из номера в номер писал о том, о чём комиссия говорила при закрытых дверях: о несправедливости крепостного права, о том, что оно уродует помещика едва ли не больше, чем крестьянина: столь пагубна власть над ближним. О взятках, поборах, круговой поруке в судах, о странном противоречии между воспитанием на высоких образцах - и столь низкой действительностью.
Екатерине нравилось! Даже полемизировала с Новиковым на страницах своего собственного журнала "Всякая всячина". Но её положение обязывало считать "злонравие" не порождением системы, а уродливым исключением. Требовала снисхождения к человеческим слабостям... И потеряв терпение, "посоветовала" издателю, далёкому от управления, а значит, ни за что не отвечающему, "не касаться крестьянского вопроса".
"Трутень" был закрыт, но лучшие статьи из него вошли в новый альманах "Живописец". Журнал с таким же названием принял несколько иное направление: борьба за национальную культуру. Причём национальность здесь не понималась узко: одним из постоянных авторов был Герхард Миллер, участник Второй Камчатской экспедиции, автор трудов по истории и этнографии Сибири. Другой соавтор журнала - молдаванин Бантыш-Каменский, историк и большой знаток древностей.
Материала удалось собрать на десять томов, и этот проект профинансировала императрица. "Древняя Российская вивлиофика" - собрание географических сведений, редкие грамоты, описания обрядов, сочинения стихотворцев, геральдика, нумизматика, иконография - получилась настоящая русская энциклопедия. А загадочное слово "вивлиофика" - это "библиотека". Можно оценить, насколько ещё не устоялся научный язык!
Отдельно - "Словарь о российских писателях". Небольшие очерки обо всех, кого удалось воскресить из забвения, со времён Нестора-летописца. Всего 317 человек...
Но учёные труды - не для всех. А книги надо дать ВСЕМ. И Новиков переводит на русский Бомарше, Сервантеса, Мольера, Прево. Знакомит читателя с Робинзоном и Гулливером. А также с Платоном, Аристотелем, Сократом и Паскалем.
В эти же годы - журналы "Детское чтение для сердца и разума" и "Магазин натуральной истории, физики и химии". Для детей и подростков были подняты темы, совсем не детские. Любознательность должна была стать двигателем самовоспитания!
А ещё "для всех"
Это цитата сообщения Бахыт_Светлана Оригинальное сообщение
Бажов и его герои
В сказах Павла Бажова главное не труд и не мастерство, не любовь и не доброта, а бескорыстие. Золото — вот испытание для человека.
Павла Бажова часто называют сказочником, хотя он писал сказы — большая всё-таки разница. Сам он себя называл и писателем, и фольклористом (точнее собирателем фольклора), и писателем-фольклористом. «Я лишь обрабатываю фольклорный материал», — говорил он. Но в этой обработке чувствуется явное не учёное, а творческое вмешательство.
Он вырос в семье рабочего Сысертского завода, учился в Екатеринбургском духовном училище и в Пермской духовной семинарии. Отказавшись принять духовный сан, преподавал русский язык, а летом отправлялся в экспедиции по сбору фольклорного материала.
Интерес к народному творчеству возник у него ещё в детстве, благодаря семье и заводской среде. «О своей бабушке храню благодарную память, как о ласковом, немало повидавшем на своём веку трудностей и словоохотливом человеке, честно отработавшем свой срок. Но таких было немало и в ближайших избах. Поэтому выделять, что-то или другое слышал от своей бабушки, считаю невозможным. Да это и повело бы, как уже говорилось выше, вовсе не в ту сторону, куда надо. Единственно, что могу утверждать, — это первые детские сведения о Медной горе могли быть получены только от бабушки и отца, так как других лиц, знавших об этом, в ближайшем моём окружении не было. Но это уже сказано, и поэтому вопрос снимается. Отсюда вывод, вроде совета. Надо налегать не на бабушку, а на весь рабочий уклад того времени и особенно на «институт заводских стариков»… Для примера укажу на летние беседы на «завалинках» в праздничные дни или даже на такие обычаи, как супрядки, капустники и т. д., где обычно «вертелись» и мальчуганы годов до семи-восьми. Там они, как губка, впитывали, «о чём старухи судачат», «о чём старики сказывают»».
Павел Бажов. (Wikimedia Commons)
Особенно его интересовали так называемые присловья, побаски: «Стал записывать. Меня влекли те из них, где слышались отзвуки бурлачества, чусовской вольницы и т. д. Записал я шесть тетрадей. Это была моя первая краеведческая работа. Но в годы гражданской войны затерялась». И всё-таки многое осталось в памяти Бажова. Вот некоторые примеры, которые сразу и без тетрадок он выдавал своим собеседникам и корреспондентам по переписке: «Живём весело: кабак на горе, Серги далеко видно и спускаться ловко»; «Где сеют, да веют, да молотят, да
Мыслю - значит, существую!
5 минут
307 прочтений
9 января
"Любовь к праздности и разврату - главные мотивы, привлекающие молодых людей к военной службе!" - так объяснил Рене Декарт своё вступление в армию. При отсутствии военных действий - чем не жизнь? Непонятно только, для чего тогда столь солидное образование.
Родители Декарта были, пожалуй, самой богатой семьёй в городке Ла-Эй, что в Турени, могли оплатить хорошую школу. И восьмилетнего Рене отправили в Иезуитскую коллегию. "Братья Иисуса" создали, без сомнения, лучшую светскую школу: здесь даже классы формировали по способностям учеников, здесь тщательно продумывались программы и одним из основных предметов была математика - тренировка мышления! Для Рене она стала любимым предметом, он удивлялся, почему на столь прочном фундаменте не построено ничего возвышенного?
А после школы - обычная жизнь состоятельного юнца, бездумная и бессмысленная. Надоело! Занялся геометрией, а в двадцать лет стал офицером голландской армии.
Участие в битвах Тридцатилетней войны, путешествие по Европе, изучение нравов разных народов - опыт бесценный, Декарт становится одним из самых интересных людей века, его рассказами заслушиваются. Между прочим, одно из его приключений - это же сюжет будущего "Ревизора"! По возвращении в Париж его приняли за посланца Рыцарей Розового Креста - Розенкрейцеров. И чем больше он пытался доказать, что сам Орден Розенкрейцеров - миф, порождённый фантазией людей, ожидающих реформы науки, тем больше публика "убеждалась", что имеет дело с тайным реформатором: знаток всех наук! И его дом превратился во что-то среднее между Академией и светским салоном.
И снова армия. Осада Ла-Рошели. Здесь Декарта более всего интересует плотина, воздвигнутая кардиналом Ришелье - интереснейшее инженерное сооружение! Но когда же настанет время для собственных открытий? Столько продумано, столько уже написано по математике, физике, оптике, психологии - но не опубликовано пока ничего!
Однажды в светском салоне пришлось слушать де Шанду, авантюриста и алхимика. Спросили мнение Декарта об этой новой философии - ответил, что де Шанду заслуживает величайшей похвалы за смелость. Не ссылаться на Писание или на Аристотеля, оперировать только фактами - это уже само по себе похвально. НО! Нельзя же так легко принимать "вероятное" или "правдоподобное" за истинное! "Пусть кто-нибудь выскажет заведомо истинную мысль - и я двенадцатью доводами её опровергну"
Восхитительная игра разума! Простую и очевидную истину Декарт представил совершенно ложной, причём его доводы были убедительны абсолютно! А затем так же логично доказал "истинность" полного вздора! Наглядно показал, что философия - не вполне наука: она не располагает прочными основами математики, увы...
Но во Франции вольнодумство всё ещё было опасно, и Декарт перебрался в Голландию. Здесь он занялся делом, совсем уж неожиданным для философа - изучением строения организма животных. На бойне. Аналогия с человеком полная! Руководящий центр - мозг, но информацию он получает, в основном, от глаз. Нарушение зрения или слуха - ложная информация - неправильный поступок... Причинно - следственные связи, как в механизме. Живая машина!
Это было начало учения о рефлексах. Неосознанных действиях, вызванных раздражением нервов. Именно по нервам передаётся сигнал!
Рисунок из рукописи Декарта
Объединив под одной обложкой свои исследования в разных науках, от физиологии до астрономии, Декарт готовит к печати книгу, которую он назвал кратко: "МИР". И называет своё сочинение... фантастическим. Дескать, это не о нашем мире, управляемом, без сомнения, божьей волей, а о некоем идеальном, в котором действуют лишь законы природы!
Но, узнав об осуждении Галилея, откладывает книгу до лучших времён. Да наступят ли они когда - нибудь?! А пока занялся "методом извлечения из любого предмета истин, в нём заключенных" - поиском правил, помогающих установить истину там, где не может помочь собственный опыт. А он не может помочь в большинстве случаев: чувства наши ограниченны, наблюдения отрывочны, жизнь коротка.
Первое - не принимать за истину то, что продиктовано авторитетами. Проверять и перепроверять.
Второе. Делить сложную задачу на множество простых, действовать поэтапно.
Третье. Руководить ходом своих мыслей, двигаясь от простого и хорошо известного - к сложному и неизвестному.
И наконец, излагать ход своих мыслей на бумаге так, чтобы их мог постичь другой человек: ясно, отчётливо и последовательно, не пропуская никаких "мелочей".
Так это же правила математики! Неужели они действительны и для философии?
Известные и неизвестные величины в алгебре Декарт первым начал обозначать латинскими буквами, изобрёл систему координат, ввёл понятие переменных величин для решения задач, казалось бы, далёких от математики, применил математический анализ к явлениям биологии и медицины. Вполне достаточно, чтобы войти в историю, но мечтал-то Декарт о создании полной системы мира!
Если наши чувства способны нас
Это цитата сообщения Бахыт_Светлана Оригинальное сообщение
«12 "Апостолов" блокадного Ленинграда»: Как инвалиды спасли тысячи жизней, защищая Северную столицу
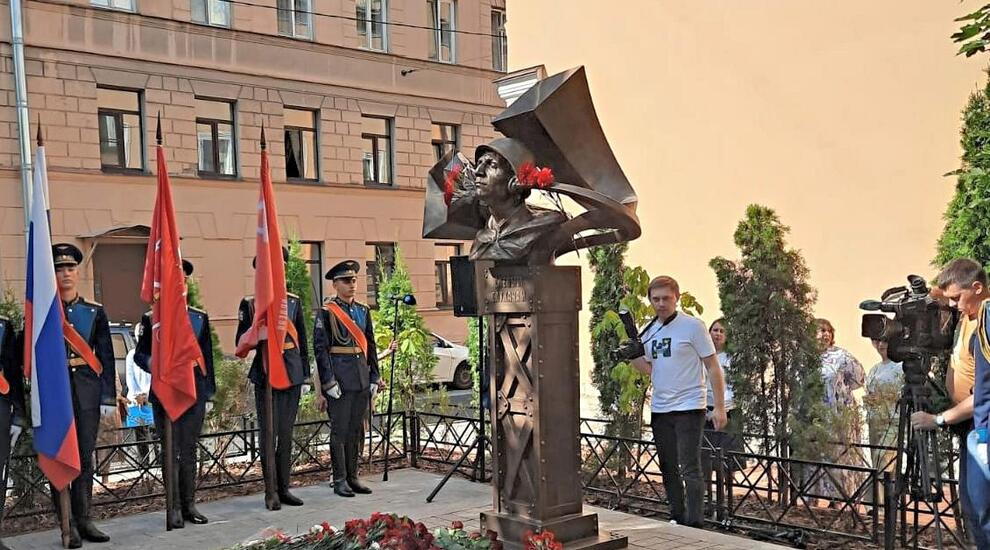
Внимают биению сердца Всевышнего.
У неба - злокачественная блокада,
Шумы, аритмия, никчёмная слышимость.
Пусть «воздух!» на выбросе адреналина
Минует ловушки и все полиграфы.
Но помни, что небо и есть пианино
Расстроенное Люфтваффе.
Быть может брюхатое это облако,
Что тьмою крестов по краям расшито,
Фальшиво натужится и до срока
Вдруг выродит Мессершмитты.
Читая по Брайлю нотную грамоту,
Двенадцать Апостолов в телогрейках
Играют беззвучно «Седьмую» блокадную,
Как траур по асам рейха.
А чтобы слышней и как можно громче,
Чтоб звук разрывался минорной миною,
Откуда-то свыше звучит Чайковский,
Впивая в мотор «Лебединое».
Шаляпин до хрипа кровавя связки
Басит на утробных низах пропеллеров,
Чтоб наши Апостолы ленинградские
Услышали своевременно.
Господь с ультразвуком своих причастий
Их потчует внутренним зреньем, как хлебом.
Апостолы слепы бывают чаще,
Чтоб чуять дыханье неба.
30.01.2024
***Начиная с 1942 года и до самого конца блокады охранять Ленинград от воздушных налетов помогали слепые люди с идеальным слухом. Специальная бригада из 12 человек, которых отобрали из 300 незрячих, отказавшихся уехать в эвакуацию. Среди них были и известные тогда музыканты.

"Апостолы" блокадного Ленинграда. Инвалиды составили уникальную команду для защиты города
Блокада заставляла искать неординарные решения для защиты Северной столицы. Немцы предвкушали скорый заход в город и неторопливо подвергали разрушению с помощью бомбардировок. Командование решилось на необычный шаг.
Отличать Врунгеля от Врангеля
6 минут
8634 прочтения
28 февраля 2024
Рассказав про Хоттабыча, мы закономерно переходим к его "молочному брату", еще одному культовому советскому сказочному герою - капитану Врунгелю.
Почему молочного брата? Потому что вспыльчивого джинна и говорливого капитана яхты "Беда" объединяют как минимум время и место рождения.
Оба литературных персонажа увидели свет в годы Большого Террора - "Врунгель" был издан в 1937-м, "Хоттабыч" - в 1938-м. Крестным папой и джинна, и капитана стал человек, невероятно много сделавший для создания великой советской детской литературы - тогдашний главный редактор журнала "Пионер" Бениамин Ивантер, которого все - от курьера до приходящих в журнал классиков советской литературы - называли просто Боб. Об этом замечательном человеке я писал в своей книге "Жил-был художник один".
Была еще и третья "скрепа", связавший эти две прекрасные сказки, но об этом позже. Сначала - про то, как в "Пионер" попал "Врунгель".
Как раз в те времена главный пролетарский писатель Максим Горький призвал в литературу "людей бывалых". Автор "Капитана Врунгеля" Андрей Некрасов был именно из таких.
Детство в Москве в семье врача. Взросление в годы большой русской Смуты. Трудовую деятельность начал чернорабочим, потом недолго работал монтером на Московской трамвайной станции. В 19 лет сбежал за романтикой в Мурманск, где завербовался матросом на рыболовецкое судно.
С Русского Севера судьба занесла его на Дальний Восток, где он чем только не занимался. Как писал сам Некрасов: "Я ловил треску в Баренцевом море. Мыл золото на Амуре, бурил нефть на Сахалине, выстаивал трудные вахты у раскаленных топок судовой кочегарки, бил моржей в Беринговом проливе, добывал китов в Тихом океане…".
В 23 года по совету старших товарищей поступил во Владивостокский морской техникум, который через три года, в 1933-м закончил.
Когда пишешь про любимые книги детства, любой рассказ почему-то периодически становится личным. Так и здесь - этот самый техникум спрогрессирует до вуза и станет называться ДВВИМУ - Дальневосточным высшим инженерным морским училищем. Проще говоря, высшей мореходкой, на судоводительский факультет которой примерно через полвека поступлю я, улетев из родной Средней Азии за романтикой на край страны, во Владивосток, к океану. Вот вам фото времен моей учебы в ДВВИМУ или "бурсе", как ее все называли.
Но это я, а Некрасов в тридцатые еще немного походит в море, а потом из-за болезни (начала "сохнуть" нога) осядет на берегу на должности заместителя начальника морского управления треста со звучным названием «Дальморзверпром». А потом вообще оформит инвалидность и решит стать писателем - благо печатался с 1928 года - и уедет на родину, в Москву.
На инвалидную пенсию не проживешь, поэтому в Москве Некрасов активно занимается литературной поденщиной. Публикуется в основном в детских журналах, в «Мурзилке», в «Пионере». В 1935 году издает книгу рассказов и очерков «Морские сапоги».
Бывший моряк не брезговал и научно-популярной литературой для юношества, и в 1936 году в серии «Библиотека юного колхозника» издали его книжку «Электрическое солнце».
Может быть, Андрей Некрасов так и остался бы никому не известным писателем "третьей лиги", литературным поденщиком, подрабатывавшим написанием очерков в журналах. Но в том же 1936-м появился хороший заказ, и друзья из "Пионера" позвали его в писательскую "бригаду. Вчетвером — Андрей Некрасов и три Бориса: Житков, Ивантер и Шатилов — они писали для советских пионеров идеологически-правоверное житие под названием «Повесть о товарище Кирове». Ну а вечерами, как это водится в бригадах, периодически отмечали за рюмкой окончание плодотворного трудового дня.
На этих посиделках Некрасов, как выражаются флотские, "травил" - рассказывал всяческие байки о морских делах. Травить он любил и умел, поэтому вся писательская бригада периодически билась в корчах, угрожая перевернуть стол с нехитрой закуской. Отсмеявшись и вытерев слезы, Борис Житков однажды и предложил соавтору не зарывать свой талант в байопики.
Напиши, мол, "небольшую повестушку о капитане, который рассказывает о своем кругосветном плавании и «к былям небылиц без счету прибавляет»". А Боб вон издаст. Давай, давай, не тяни! Вон у тебя сколько материала пропадает!
Предложение написать про морские приключения советского барона Мюнхгаузена очеркиста Некрасова озадачило. В юмористическом жанре он отродясь не работал, да и крупную форму никогда сольно не писал.
Для начала решил собрать команду. Капитана он собирался писать с непревзойденного "травильщика", своего начальника в тресте «Дальморзверпром», легендарного дальневосточного капитана Андрея Вронского. Тем более, что всего одну букву поменять - и будет у персонажа говорящая фамилия, "капитан Вранский".
Потом подумал, и забраковал идею - слишком уж все на поверхности. Все сразу поймут намек, а Вронский обидится - уважаемого человека брехуном вывели. Надо что-то другое... Барон Мюнхгаузен...
Как снимали фильм "Крокодил Данди": кадры со съемок и 18 интересных фактов о фильме
7 минут
144,1 тыс прочтений
22 марта 2024
Как ни странно, но в детстве я всегда обходил стороной фильм "Крокодил Данди" (1986). Как-то не впечатляли меня все эти австралийские штуки. Лишь когда мне стукнуло лет 13, я все же решил посмотреть это кино, и остался в полном восторге от просмотра.
И сегодня я хотел бы рассказать, как снимали фильм "Крокодил Данди" (Данди по прозвищу "Крокодил"), а также показать вам интересные кадры со съемок этой культовой ленты.
1. Идея снять фильм "Крокодил Данди" появилась можно сказать случайно. Когда Пол Хоган находился в Нью-Йорке, ему всё казалось таким необычным, что он задумался над тем, почему бы не снять фильм про жителя австралийской глубинки, который попал в американский мегаполис.
Также, немалый вклад в будущий фильм внесла реальная история латышского охотника Арвида Блументалса, известного под именем Родни Анселл или Гарри "Крокодил". Да-да, свое прозвище киношный Данди получил именно благодаря Арвиду. Кстати, на родине в Латвии Блументалсу установлен памятник в виде крокодила.
Хотя, по другой версии прототипом главного героя стал австралиец Родни Анселл. Однажды лодка, на которой плыл Анселл, перевернулась, в результате чего бедняга длительное время плыл по течению реки, пока не добрался до безлюдного острова. Родни провел на этом острове около двух месяцев, пока не наткнулся на местных фермеров, благодаря которым он и смог вернуться домой.
2. Пол Хоган решил поделиться своей идеей со своим давним другом и агентом Джоном Корнеллом, и тот предложил ему сделать фильм в стиле "Диснея", но без участия этой крупной компании.
Именно Корнелл придумал, как раздобыть деньги на съемки фильма без участия крупных компаний, чтобы не сотрудничать с австралийской кинокомиссией, иначе у них были бы "связаны руки".
Тогда Джон и Пол нашли порядка 1500 мелких инвесторов, в результате чего набежала довольно крупная сумма для съемок фильма. И самое главное, у них была полная свобода творчества, чего бы не было, если бы они связались с одним крупным инвестором. Помимо этого Пол и Джон вложили собственные средства в размере 600 тысяч долларов.
Джон Корнелл - соавтор сценария, продюсер
Также, одним из многочисленных инвесторов стал австралийский музыкант и солист группы "INXS" Майкл Хатченс.
В общей сложности на съемки фильма удалось наскрести 8,8 миллионов австралийских долларов, что на 1986 год составляло примерно 6 миллионов долларов США.
3. Для того, чтобы пустить фильм в прокате США, Джон Корнелл обратился к студии "20-th century FOX". По словам Джона Корнелла, продюсер компании показывал явное отвращение к фильму. Он смотрел его закинув ноги на стол, и постоянно поглядывая на часы. А через 20 минут он просто выключил фильм и сказал, что его не интересует столь посредственная лента.
Тогда Корнелл обратился с тем же вопросам к кинокомпании "Paramount", и здешним студийным боссам фильм очень даже зашел. Я думаю, что тот самый студийный босс из компании "20-th century FOX" долго жалел о том, что не взял фильм, ставший в итоге хитом.
Правда, американская версия фильма была короче австралийской примерно на 7 минут. В частности, из американской версии были убраны сленговые австралийские словечки, которые понятны только местным.
4. В австралийский сценах почти все роли исполнили австралийские актеры. Единственным исключением стала американская актриса Линда Козловски.
Этот факт очень разозлил австралийское киносообщество, так как они хотели видеть в австралийских сценах фильма исключительно австралийцев. Но Пол Хоган все уладил, сказав ,что им нужна известная американская актриса для привлечения американской аудитории.
Это заявление успокоило австралийских общественников. Правда, они не знали, что Пол Хоган слегка слукавил. Дело в том, что Линда Козловски ни разу не была известной актрисой, и даже в штатах он ней практически никто не знал.
5. Изначально планировалось, что в съемках будет участвовать настоящий крокодил, но актриса Линда Козловски наотрез отказалась сниматься рядом с настоящей зубастой рептилией. Тогда было решено приобрести механический экземпляр. К слову, искусственный крокодил обошелся студии в 45 тысяч долларов.
Также, была приобретена отдельная кукла (уже не механическая) крокодила в полный рост. Именно в эту куклу Данди вонзал свой нож.
Но несмотря на то, что во время сцены нападения был использован механический крокодил, рядом в воде плавали реальные рептилии, которые запросто могли напасть на актрису. Поэтому, в целях безопасности на деревьях расположилось несколько людей с винтовками, которые должны были применить оружие в случае опасности. А вот сцены с живыми крокодилами снимались уже отдельно от актеров.
6. Австралийские съемки фильма проходили в национальном парке "Какаду", где когда-то добывали уран. И так как парк находился очень далеко, а рядом не было никаких домов и гостиниц, то всей съемочной группе приходилось
Что пришлось переделать создателям фильма "Через тернии к звездам", и другие факты о фильме
3 минуты
8133 прочтения
26 марта 2024
Фильм "Через тернии к звездам" является отличным представителем советского фантастического кино. Сначала режиссер Ричард Викторов порадовал детей и подростков фильмами "Москва - Кассиопея" и "Отроки во Вселенной", а затем он снял еще один фильм, но уже для более взрослой аудитории (хотя дети также можно посмотреть этот фильм).
А далее вы можете прочитать различные факты, связанные с фильмом "Через тернии к звездам" 1980 года.
1. Изначально режиссер Ричард Викторов задумывал снять фантастический фильм, который было бы одинаково интересно смотреть взрослым и детям. Но затем акцент чуть более сместился в сторону взрослой аудитории.
2. Ричард Викторов долго искал актрису, которая бы смогла сыграть главную роль. Но все претендентки ему не нравились. В одном журнале мод он увидел фотографию манекенщицы из ГУМа Елены Метелкиной и понял, что это именно та женщина, которая могла бы точно передать образ главного персонажа.
3. У Елены Метелкиной не было актерского образования, она практически не имела опыта съемок в кино, а потому худсовет долго не утверждал ее на главную роль. Также участники худсовета сомневались, что Елена Метелкина может привлечь внимание зрителей.
4. По замечанию худсовета был исправлен "вопрос с волосами". По их мнению лысая женщина вызывала бы отторжение у зрителя, рекомендовали сделать хоть какие-то волосы. В итоге были изготовлены парики как для Нийи, так и для других клонов.
5. Виды гибнущей планеты Десса снимали на заброшенном нефтеперерабатывающем заводе в Таджикистане. После землетрясения возле завода просел грунт и образовалось озеро, которое заполнили строительным мусором. Такой ландшафт очень походил на представляемое будущее. Между прочим, на этом месте ранее планировал снимать "Сталкера" Андрей Тарковский, но не стал.
6. Роль одного из археологов сыграл сын режиссера Николай Викторов.
предположительно, юноша в кепке он и есть
7. Некоторые космические сцены снимались под водой с использованием "гидроневесомости". На актерах были акваланги, а поверх их - шлемы.
8. Хоть действие и происходит в будущем, но некоторые сцены снимали в зале московского аэропорта Шереметьево-2.
9. В эпизоде, где Нийя раздевается на пляже планировалось показать, что у нее отсутствует пупок. Но цензурные органы сказали, что подобное недопустимо в советском киноискусстве. Пришлось придумывать монолог про "моральные нормы землян", чтобы оставить эту сцену.
10. Робота Бармалея первоначально изготовили из металлических ведер. Но режиссер отверг этот вариант. В итоге, из-за отсутствия средств и времени робота сделали надувным.
11. Для изготовления мертвых клонов Нийи сделали следующим образом - актрису побрили наголо, а с ее тела и лица сделали гипсовые слепки. Затем слепки заполнили жидким пенопластом. Полученных кукол запустили в бассейн, чтобы создать эффект парения.
12. Перед выходом фильма на экраны из него было вырезано несколько сцен. Как ни странно, но вырезали сцены, которые могли намекнуть на ввод советских войск в Афганистан. Постарались смонтировать так, чтобы никто не нашел никаких связей.
13. В 2001 году сын режиссера Николай Викторов выпустил переработанную версию фильма. После переработки фильм был сокращен на 20 минут, чтобы подогнать под современные стандарты хронометража. В новой версии сокращены растянутые эпизоды, убраны эпизоды с элементами "идеологии", добавлены кадры парящих над космопортом звездолетов.
14. В 1980 году фильм "Через тернии к звездам" был показан в 42 странах.
15. Известный американский режиссер Скот Ридли дважды посещал Москву и киностудию, чтобы узнать, как снимали наиболее фантастические сцены фильма и как строили декорации.
16. Когда снимали фильм, то режиссер очень хотел вместо банального слова "Конец" завершить фильм фразой "Все кадры гибнущей (мертвой) планеты Десса сняты на Земле сегодня". Но в Госкино по каким-то причинам запретили так завершать фильм. Эта надпись появилась лишь в новой версии фильма.
Данный факт взят из интервью Кира Булычева, но почему-то в Интернете в обеих версиях есть эти титры. Может быть кто помнит - до 2001 года данная фраза присутствовала в фильме?
17. В американском телесериале "Таинственный театр 3000 года" в урезанном фильме был показан фильм "Через тернии к звездам", но под названием "Гуманоидная женщина" - 1 сезон 11 серия.
«Сияй во что попало» — выходки и чудачества Владимира Маяковского
4 минуты
73,6 тыс прочтений
27 ноября 2024
Оглавление
«Плохая и скучная книга»
«Мои стихи не печка и не чума»
«Шашки»
Показать ещё
Поэт Владимир Маяковский среди молодежи на выставке «20 лет работы Маяковского», 1929 год © РИА Новости
О чудачествах Владимира Маяковского ходили легенды: поэт обладал неудержимым нравом, был остроумен, иногда груб, иногда, напротив, мягок и ласков, но всегда — непредсказуем. Играть роль, жить на полную катушку, восхищать, раздражать и сердить — он умел вызывать любые эмоции, кроме скуки или безразличия. Как писал Корней Чуковский: «Ежедневно создавать диковинное, поразительное, сенсационное никаких человеческих сил не хватит». У Маяковского — хватало. Ниже несколько достоверных историй, записанных его друзьями и знакомыми.
«Плохая и скучная книга»
На палубе парохода, идущего в Сухум, Владимир Маяковский читал какую-то книгу. И по мере прочтения вырывал каждую страницу и бросал ее за борт. Прочитает, вырвет и снова бросает в море новый лист. Один из пассажиров спросил его:
— Товарищ Маяковский, почему вы так обращаетесь с книжкой?
— Это очень плохая и скучная книга, — ответил Маяковский, — не хочу, чтобы кто-нибудь тоже мучился, читая ее.
«Мои стихи не печка и не чума»
Особенно известны были публичные выступления Маяковского и его реплики и ответы в адрес зала:
— Владимир Владимирович, почему ваши стихи не волнуют, не греют, не заражают?
— Потому что мои стихи не море, не печка и не чума.
— Маяковский! Почему вы так себя хвалите?
— Шекспир советовал: говори о себе только хорошее, плохое о тебе скажут твои друзья.
— Я должен напомнить товарищу Маяковскому старую истину, которая была еще известна Наполеону: от великого до смешного — один шаг…
Маяковский, смерив взглядом расстояние, отделяющее его от собеседника, соглашается: — Вы правы, от великого до смешного — один шаг.
Поэт Владимир Маяковский на вечере, посвященном открытию нового корпуса столовой Дома отдыха работников искусств, Сочи, 1929 © РИА новости
«Шашки»
Маяковский был очень азартным человеком. Он увлеченно играл в любые игры, от карт и домино до бильярда. Иногда доходило до того, что он вызванивал товарищей фразами: «Приходите. Мне срочно нужно вас обыграть!» Ему был важен не выигрыш, а победа, удача и самоутверждение. Поэт Николай Асеев вспоминал: «С Маяковским страшно было играть в карты. Проигрыш он воспринимал как личную обиду, как нечто непоправимое».
Писатель и переводчик Рита Райт, однажды проигравшая Маяковскому партию в шашки, должна была неделю мыть его бритву и кисточку. Она вспоминала: «Маяковский торжествовал. На следующее утро, идя с купанья, я издали услышала с террасы паровозный рев: Ри-и-и-ту-у! Мыть бри-и-итву-у!»
«Вот она – слава!»
Однажды Маяковский прогуливался со своим другом поэтом Владимиром Гольцшмидтом, который рассказывал о своих успехах:
— Вот я всего месяц в Москве, и меня уже знают. Выступаю — сплошные овации, сотни записок, от барышень нет отбою. Как хотите — слава...
В это время им навстречу шел красногвардейский патруль. Маяковский сразу же обратился к ним:
— Доброе утро, товарищи!
Красногвардейцы ответили дружно:
— Доброе утро, товарищ Маяковский!
Поэт повернулся к собеседнику и, усмехаясь, сказал:
— Вот она, слава, вот известность... Ну, что ж! Кройте, молодой человек.
«Желающие получить в морду»
Иван Бунин оставил о Маяковском очень яркие воспоминания:
«Маяковский прославился в некоторой степени еще до Ленина, выделился среди всех тех мошенников, хулиганов, что назывались футуристами. Вот он, по воспоминаниям одного из его тогдашних приятелей, выходит на эстраду читать свои вирши публике, собравшейся потешиться им: выходит, засунув руки в карманы штанов, с папиросой, зажатой в углу презрительно искривленного рта. Он высок ростом, статен и силен на вид, черты его лица резки и крупны, он читает, то усиливая голос до рева, то лениво бормоча себе под нос; кончив читать, обращается к публике уже с прозаической речью: “Желающие получить в морду благоволят становиться в очередь”».
«Ваши вдохновенные волосы!»
На даче Корнея Чуковского в 1915 году Маяковский часто читал стихи. Однажды, когда он декламировал поэму «Облако в штанах», на слушания пришел Илья Репин с дочерью. Все ждали, что он будет рвать и метать, — все-таки человек старых порядков, — но Репин был восхищен. И тут же вознамерился писать портрет молодого Маяковского и его «вдохновенные волосы». Но в назначенный день поэт явился к нему в мастерскую… предварительно побрившись налысо! Так портрет и остался ненаписанным.
Владимир Маяковский © РИА Новости
«Пишу вам во весь разворот»
Маяковский, несмотря на свою брутальную репутацию, был очень внимательным и заботливым сыном. Но и со своей мамой он общался с юмором. Известны строчки из его письма матери Александре Алексеевне, написанные в 1926 году из Евпатории: «Дорогая моя, милая и родная мамочка! Видите, какой у вас хороший сын,
Души незаживающий ожог"
4 минуты
2734 прочтения
13 сентября 2024
Предательство... Тема литературы, столь же вечная, как и любовь. Но если разговоры на уроках литературы о "сортах и родах" любви традиционны, то о предательстве стараемся кратко и вскользь, ибо ... противно.
Когда Тарас Бульба убивает сына, сочувствие шестиклассников на стороне... сына: "Он же... от ЛЮБВИ!" Да подчас и вполне взрослые люди, не перечитав повесть во взрослые годы, пытаются объяснять, что "умереть за любовь - это возвышенно и прекрасно, а дубине-Тарасу этого не понять, он жену не любит". А между тем, любить Андрию никто не запретил бы. Хоть женись на своей панночке, но прежде возьми её в плен.
Перечитали бы - знали бы, что измена в данном случае - убийство СВОИХ. Да, в бою. Но что у запорожцев полагалось за убийство своего, помните? Дрогни рука у Тараса - и назавтра его сын был бы закопан заживо.
Но так и быть, будем условно считать, что на предательство могла толкнуть любовь, ведь других мотивов у Андрия не было. Ни страха, ни корысти.
Одно время тема обсуждалась ещё и по повести Василя Быкова "Сотников". И по фильму "Восхождение" - экранизация дословная. Объём скромный, сюжет простой: два партизана отправлены за продовольствием для отряда. В село. Сотников - интеллигент, хлюпик, да ещё и простужен, сидел бы уж в лесу. Его напарник Рыбак, похоже, справился бы и один. Нормальный такой селянский хлопец, который всегда найдёт выход. Не подведёт.
Но оба пойманы полицаями. В крестьянской избе.
Сотников чувствует себя безмерно виноватым перед хозяйкой избы - бабой Дёмчихой, перед её четырьмя детьми, которые теперь останутся сиротами.
В подвале, превращённом в застенок, кроме них ещё и староста деревни, уличённый в помощи партизанам, и десятилетняя девочка. "Виновная" лишь в том, что она - еврейка. Выдал директор школы.
Наутро их повесят. И повесит их... Рыбак. Только при этом условии ему позволят жить.
Читая, физически чувствуешь ужас перед бездной. Перед петлёй. А значит, есть возможность примерить ситуацию на себя. Невозможно лишь найти оправдания, как не находит его и сам Рыбак - повесив Сотникова, он пытается повеситься и сам. Незаметно, в сарае. Не получилось... Быть ему теперь полицаем до самого логического конца.
Заметим, предательство от страха - это не "от любви". Мотив совсем другой. И никто не вспоминал в обсуждениях директора школы, пославшего на виселицу Басю. Выслуживался? Корысть?
С тех пор как убрали из программы "Сказку о Мальчише Кибальчише", это не обсуждалось. Ведь Плохиш - имя нарицательное, образ вечный. Помним, что его решение НЕ спонтанно - он и на войну отправился с мыслью, "как бы буржуинам помочь". И оказался "самым дальновидным", Героем Буржуинства, и получил в придачу к ордену целую бочку варенья да целую корзину печенья! Понятно, почему ни книги, ни фильма (совершенно гениального), ни даже мультфильма сегодняшним школярам не покажут.
Вдруг выводы подростков не совпадут с новой Генеральной Линией? А они не совпадут совершенно точно!
Но тема нужна - и в программе появилась новелла Проспера Мериме "Маттео Фальконе". Взрослому замена, пожалуй, покажется равноценной, а шестиклассникам? Ведь если действие не в наше время и не в нашей стране, кому сочувствовать? Понятно, ровеснику! Это же такой шок - десятилетнего мальчика хладнокровно убивает папа! И за что?! За то, что захотел игрушку, которую гадский папа ему никогда не купил бы?!
Напомню сюжет.
Остров Корсика живёт едва ли не в палеолите. Это не "хорошо или плохо" - это просто параллельный мир, не совместимый с цивилизацией девятнадцатого века. С миром, где "предать - это предвидеть". Недоверие к "властям" здесь таково, что беглеца не спросят, почему он скрывается - ему просто помогут.
(В Сибири было точно так же! Никогда сибиряки не спрашивали о вине каторжника - не верили в справедливость суда. Просто помогали).
И вот - беглец в шаге от спасения, но добежать до непроходимых зарослей нет сил - он ранен. "Помоги!" Но Фортунато не спешит: "А что ты мне за это дашь?"
Прячет раненого, лишь получив от него серебряную монету. Ловко морочит голову вбежавшим во двор солдатам. Сержант пытается припугнуть, но ведь это - "дядя сержант", дальний родственник отца. Не станет же он связываться всерьёз?
Наконец, сержант догадывается предложить Фортунато часы. Настоящие, серебряные, с цепочкой! Они ведь куда дороже монеты!
Недолгой была борьба с искушением - указал Фортунато на стог сена... А тут и родители вернулись из города. В их доме арестован беглец?! Сын не сумел его спрятать?!
Несложно оказалось понять, что сын и выдал. Оцепенение родителей... Невозможно решить, как жить дальше - не было прежде в роду предателей. Решение приходит лишь тогда, когда у него обнаруживают ЧАСЫ.
И мать не останавливает отца, когда Маттео Фальконе уводит сына в лес. Просто прощается с ним. Какая скидка на возраст?! Ведь не струсил, как маленький, а польстился на подкуп. Как взрослый.
Как взрослого, его и
Неубиваемая сказка партийного функционера
9 минут
35,6 тыс прочтений
17 апреля 2024
Его обычно не любят ненавистники советской власти и у них, в общем-то, есть к этому все основания.
Этот писатель был убежденным коммунистом, успешным номенклатурщиком и умелым бойцом идеологического фронта, причем весьма результативным.
Именно он стал творцом одного из самых ненавистных им символов советской эпохи.
Ростовчанин по рождению, выросший в кубанских станицах, этот человек обладал многими качествами стереотипного жадноватого "кубаноида" из анекдотов - упрямством и пробивными способностями, изрядной цепкостью, умением увидеть свою выгоду и не упустить ее и, как следствие - большим потенциалом для карьерного роста.
И надо же такому случиться, чтобы этот неприятным человек оказался сказочником божьей милостью!
Я не знаю - почему, но в послевоенное время и до середины пятидесятых годов сказок в СССР сочинялось очень немного и были они очень так себе - вроде "Весёлое сновидение, или Смех и слёзы" Сергея Михалкова 1949 года, которую, если бы не фильм, уже при Брежневе никто бы и не вспомнил.
А уже до наших дней из сказок этого периода дожили вообще единицы.
Вышедшая в 1951 году книга "Королевство кривых зеркал" Виталия Губарева - одна из них.
Виталий Георгиевич Губарев по рождению был донским казаком и потомственным дворянином - его отец, Георгий Витальевич Губарев, принадлежал к казачьей старшине. С учетом того, что мама, Антонина Павловна, была поповной, то есть дочерью священника - происхождение по тогдашним меркам у него было весьма так себе.
Папенька был идейным, в Гражданскую с красными воевал отчаянно, после поражения белого движения ушел за кордон в Польшу, откуда в 1951 году, не желая жить в Польской народной республике, перебрался в США. В Америке Губарев-старший публиковал множество статей и монографий, посвященных истории казачества, в том числе выпустил трехтомную "Казачью энциклопедию", где, кстати, упоминает и сына Виталия и его младшего брата Игоря, ставшего летчиком.
Мальчики в детстве жили либо с мамой в знаменитой ныне станице Кущевской, либо на хуторе Большая Козинка у бабушки Марии Григорьевны, дочери морского офицера и дальней родственницы художника Айвазовского. Бабушка директорствовала в местной школе, которую и закончил ее знаменитый внук.
Виталий рос активным пионером и очень рано начал печататься - еще в 12 лет талантливого паренька взял под свою опеку главный редактор местной детской газеты «Ленинские внучата» Полиен Яковлев.
«Когда я, худенький и белобрысый, робко протиснулся в редакционную комнату с вопросом: «Где тут у вас рассказы принимают?», он внимательно прочитал написанное, показал, где лишнее, чего не хватает, и много возился со мной».
В итоге к 14 годам пионер Губарев имел неплохой пул публикаций: рассказы «Гнилое дерево» (о дружбе городских и станичных ребят) и «Сын телеграфиста» (о юном герое Гражданской войны), а также повесть «Красные галстуки» о беспризорниках.
Его журналистская карьера развивалась весьма успешно - в 1928 году Виталий Губарев уже являлся корреспондентом по Северному Кавказу «Крестьянской газеты» - тогда это второе по значимости издание после «Правды». Спецкору Губареву было тогда 16 лет.
А в 19-ть его уже позвали на работу в Москву - в издание для сельских пионеров "Дружные (по другой версии - "Колхозные") ребята". Впрочем, оттуда он довольно быстро перебрался в издание попрестижнее - в "Пионерскую правду". Этот ростовский парнишка действительно был прирожденным журналистом и уже через два года после переезда в столицу поймал свою сенсационную тему и отработал ее на пять с плюсом, прославившись на всю страну.
В 1933 году, узнав об убийстве братьев Морозовых в поселке Герасимовка Свердловской области, 21-летний журналист выбил себе командировку и принял участие в работе комиссии по расследованию, установившей, что детей убил родной дед, отомстивший Павлу за предательство, как он считал, отца.
Результатом поездки стала серия заметок Губарева в "Пионерской правде" и создание советского мифа о пионере-герое Павлике Морозове.
В защиту создателя могу сказать, что для Губарева это не было циничной "отработкой темы". По текстам видно - он действительно полагал этот эпизод эхом прошедшей Гражданской войны, и искренне считал Павлика героем, поскольку сам до конца своих дней оставался правоверным коммунистом. Да и тема отца-предателя, бросившего семью, сами понимаете, была Губареву более чем близка.
Так или иначе, развивая тему, Губарев пишет на основе своих заметок документальную книгу «Один из одиннадцати», которую позже переработает в пьесу, а затем в художественную повесть "Павлик Морозов".
Это журналистское расследование стало его счастливым билетом. Карьера уверенно шла в гору - Губарев перешел в "Комсомольскую правду", но пионерскую тему не бросал. В 30-е годы он преподает в Институте детского коммунистического движения, заведует кафедрой пионерской работы в Центральной комсомольской школе, позже
Русифицировал Винни-Пуха и превратил философские размышления в стихи: 5 удивительных фактов о Борисе Заходере
4 минуты
2150 прочтений
16 сентября 2023
Оглавление
Правил «Винни-Пуха» по замечаниям Корнея Чуковского
Втайне от публики переводил сочинения Гёте
Недолюбливал «Алису в Стране чудес» и отказывался ее переводить
Показать ещё
Он познакомил русскоязычных читателей с Винни-Пухом и Алисой из Страны чудес, увлекался немецкой литературной классикой и не любил выходить на публику. Вспоминаем пять удивительных фактов из биографии Бориса Заходера.
Правил «Винни-Пуха» по замечаниям Корнея Чуковского
Кадр из мультфильма «Винни-Пух». Киностудия «Союзмультфильм», режиссер Федор Хитрук, 1969 год (рекадрированный) © Юрий Абрамочкин, РИА Новости
Первый крупный перевод Бориса Заходера — «Винни-Пух» Алана Милна. Перед публикацией работу малоизвестного тогда переводчика отдали на проверку Корнею Чуковскому — мастеру детских текстов. Чуковский похвалил Заходера, но назвал его стиль «расшатанным»: имя «Пятачок» и восклицания «батюшки» показались писателю странными. Они точно отсутствовали в оригинале и были полнейшей выдумкой переводчика.
Заходер послушал старшего товарища: «батюшки» из книги убрал. Но Пятачка решил оставить. Он гармонично смотрелся рядом с пыхтелками и вопилками Винни-Пуха — их тоже добавил Заходер. Это было в стиле его перевода, который иногда больше походил на пересказ. Писатель мог до неузнаваемости изменить оригинал, трансформировать его под сознание русскоязычного читателя. Это шло вразрез с академическими нормами перевода, но превращало его тексты в родные и понятные русскому уху.
Втайне от публики переводил сочинения Гёте
Галина Сергеевна Заходер — писатель, фотохудожник, жена писателя Бориса Заходера. Автор книги воспоминаний «Заходер и все-все-все». В доме Заходеров © Svklimkin, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
Любимым языком перевода для Бориса Заходера был немецкий. Он говорил: «Если я не знаю какого-то немецкого слова, значит, его нет в словаре или оно вообще не существует». Писатель начал переводить с немецкого еще в десятилетнем возрасте. Тогда он выбрал не детский стих и не сказку, а сразу схватился за «Лесного царя» Гёте. По выражению Заходера, так он хотел «утереть нос Жуковскому», который перевел это стихотворение на русский в 1818 году.
Гёте остался с Борисом Заходером на всю жизнь. После смерти писателя его жена Галина обнаружила около 800 листов черновиков Гёте: их Заходер 60 лет писал в стол. Это был грамотный перевод, достойный печати. Но подобная серьезная работа не соответствовала статусу классика детской литературы, поэтому Заходер скрывал свое увлечение от публики. Он признавался: «Титул „детского поэта“ закрывал мне путь во взрослую поэзию». Заходер, так же как Чуковский, Барто и Маршак, однажды попробовал детскую литературу и уже не смог ее покинуть.
Недолюбливал «Алису в Стране чудес» и отказывался ее переводить
Джон Тенниел. Иллюстрация «Приключений Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, 1865 год © Public domain
Заходеру дважды предлагали перевести «Алису в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. В первый раз он напрочь отказался, во второй — согласился только потому, что нуждался в деньгах. Тогда Заходер должен был срочно расплатиться с кредиторами за любимый дачный дом. Еще одна причина начать перевод книги — надежда окончательно бросить курить. Только погружаясь с головой в работу, он забывал о сигарете.
Заходеру не нравилась девочка Алиса в других переводах, поэтому он создал ей новый образ доброй и любопытной фантазерки. Писатель даже ласково называл ее Аленкой. Так работать было проще, хотя Заходер шутил: «Перевести „Алису“ будет труднее, чем перевезти к нам Англию». Все потому, что оригинал Кэрролла опирается на английскую литературу. Например, он использует стихи, пародирующие английскую классику. Заходеру пришлось подобрать строки, известные русскоязычным читателям, и написать свою пародию на них:
Звери, в школу собирайтесь!
Крокодил пропел давно!
Как вы там ни упирайтесь,
Ни кусайтесь, ни брыкайтесь —
Не поможет все равно!
Дети ежегодно посвящали Заходера в пионеры
Заседание клуба интернациональной дружбы «Горизонт» в школе №20. УССР, 1975 год © С. Крячко, РИА Новости
Борис Заходер не любил показываться на публике: он не выходил в эфиры на телеэкраны и редко давал интервью. Даже в Москве бывал нечасто, предпочитая писать в тишине загородного дома. Но были гости, которым детский писатель никогда не отказывал в приеме. Каждый год в канун дня рождения к Заходеру приходили школьники. В благодарность за его творчество они приносили писателю рисунки, поделки и стихи.
Школьники ежегодно проводили в доме Заходера ритуал: они посвящали писателя в почетные пионеры. Даже галстук торжественно надевали. В детстве Борис Заходер пионером не был, во взрослом возрасте в ряды партии тоже не вступал. Но попытки ребят сделать из писателя «своего» его трогали. Сколько раз происходило такое посвящение и как много Заходер набрал красных галстуков,
Как снимали фильм "Пираты XX века": кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме
9 минут
223,7 тыс прочтений
28 марта 2024
Фильм "Пираты XX века" (1979) - это первый полноценный советский боевик, который стал абсолютным чемпионом в Советском прокате. Даже я, воспитанный на фильмах со Шварценеггером и Сталлоне, был в нереальном восторге от его просмотра, и старался никогда не пропускать, когда его показывали по телевизору.
И сегодня я хотел бы рассказать вам о том, как снимали культовый фильм "Пираты XX века", а также показать интересные кадры со съемок данной ленты.
1. Идея для сценария к фильму возникла у Станислава Говорухина после того, как он прочитал в газете заметку о морских бандитах, которые напали на итальянский корабль и похитили 200 тонн урановой руды.
Говорухина настолько впечатлила эта история, что он решил создать боевик с трюками и каратэ, что было в новинку для советского зрителя, не привыкшему к подобному жанру.
Станислав Говорухин
Но несмотря на то, что он вложил всю душу в написанный им сценарий, сам Говорухин отказался самостоятельно снимать фильм, так как был занят съемками фильма "Место встречи изменить нельзя". Поэтому он решил отдать сценарий своего другу - режиссеру Борису Дурову, с которым они когда-то сняли фильм "Вертикаль".
2. Но несмотря на то, что сценарий был готов в полном объеме, к съемкам фильма приступили далеко не сразу. Дело в том, что перед началом съемок сценарий должен был пройти цензуру. И тут-то и пошли проблемы.
Цензорам не понравилось, что пираты похищают урановую руду, поэтому они велели заменить ее на что-то другое. Тогда урановая руда была заменена на опиум, который был необходим для фармацевтической промышленности. Но и тут цензоры зарубили эту идею, так как посчитали, что упоминание опиума в фильме будет являться прямой пропагандой наркотиков.
Говорухина настолько сильно разозлил отказ цензоров, что он с горяча сказал примерно следующее:
"А что же им тогда везти? Бланки партбилетов?"
Столь дерзкое заявление Говорухина шокировало цензоров, но немного подумав, они все же разрешили оставить опиум.
3. На роль "Деда" пробовалось огромное количество актеров, среди которых были Григорий Мартиросян и Виктор Гордеев. Но Мартиросьяну отказали из-за того, что он не подходил по типажу, зато ему предложили роль Клюева, на которую он согласился.
А вот Виктор Гордеев оказался слишком молод для этой роли, тогда как "Деда" должен был играть более зрелый и брутальный мужчина. Но Гордеева все равно не задвинули, а предложили ему роль молодого моряка Юры Микоши.
Что касается Николая Еременко младшего, то он сам пришел на пробы с целью заполучить эту роль. По его словам ему хотелось сыграть брутального героя боевика, а не очередного героя-романтика. Правда, режиссер не особо хотел брать Еременко на главную роль.
Но получения этой роли он пошел на все, даже вызвался исполнять лично все трюки во время съемок фильма. Ну а немалую роль в получении роли сыграла прекрасная физическая подготовка актера.
4. Съемки спасения буфетчицы Маши и библиотекаря Айны проходили в открытом бассейне гостиницы "Ялта" весной. Это было настоящей пыткой для Натальи Хорохориной и Майи Эглите, так как они боялись нырять под воду. Более того, вода была довольно холодной. так как на дворе была весна. Но они еще легко отделались, так как основную часть подводных съемок их подменяли дублерши.
А вот Николай Еременко младший участвовал в этой сцене без дублеров от начала до конца. На протяжении недели бедный актер по несколько часов в день проводил в воде и под водой, чтобы отснять сцену. Доходило даже до того, что сосуды не выдерживали, и у Николая Николаевича шла кровь носом.
5. Роль жестокого пирата Салеха досталась актеру Талгату Нигматулину, который получил ее во многом благодаря знанию карате, которое он ловко применял на съемочной площадке без помощи дублеров.
Николай Еременко младший был знаком с Талгатом Нигматулиным задолго до съемок в фильме "Пираты XX века". Они учились вместе в одном институте кинематографа и жили в одной комнате в общежитии, благодаря чему стали очень хорошими друзьями. Правда, во время съемок друзьям пришлось изрядно поколотить друг друга, так как сцены драки между "Дедом" и Салехом снимались без привлечения дублеров.
В жизни Талгат был совершенно не похож на своего персонажа. Нигматулин был довольно романтической натурой и даже мечтал снять свой собственный фильм. Но, к сожалению, он попал в деструктивную секту, где его и лишили жизни.
6. Во время написания сценария Станислав Говорухин познакомился с основателем центральной школы карате Алексеем Штурминым. Его настолько впечатлила техника боя, которую показывали ученики Штурмина, что он решил использовать карате и в своем фильме.
Помимо всего прочего, на роль боцмана Матвеича был приглашен старший тренер школы Штурмина - Тадеуш Касьянов, который с радостью согласился исполнить эту роль.
Алексей Штурмин и Тадеуш Касьянов
Да и вообще, Тадеуш Касьянов не только
Как снимали фильм "Десять негритят": 25 интересных фактов о фильме
10 минут
117,6 тыс прочтений
29 мая 2024
Фильм "Десять негритят", снятый по одноименному детективному роману Агаты Кристи, произвел на меня огромное впечатление в юном возрасте. Я не мог остановиться, пока не узнал, кто именно является убийцей. И каково же было мое удивление ,когда я все таки узнал, кто именно стоит за всем этим.
Поэтому, сегодня я хотел бы рассказать о том, как снимали фильм "Десять негритят", а также рассказать вам несколько интересных фактов о фильме. Осторожно! В статье присутствуют спойлеры.
1. Ни для кого не секрет, что фильм "Десять негритят" является экранизацией одноименного романа Агаты Кристи, который вышел еще в далеком 1939 году. И как признавался сам режиссер Станислав Говорухин, ему не нравилось творчество английской писательницы, но от книги "10 негритят" он был в полнейшем восторге.
Сам режиссер хотел снять свой фильм еще в 60-е годы, но в то время денег на съемки фильма ему никто не давал. чиновники из Госкино были против того, чтобы Говорухин снимал экранизацию западной книги.
В итоге, лишь спустя примерно 20 лет Говорухину выделили деньги на съемки фильма, так как отношение к западному творчеству в 80-е годы было уже гораздо мягче.
2. Удивительно, но Говорухин даже не собирался проводить никаких кинопроб, так как он прекрасно знал, какого актера он хочет видеть в роли того или иного персонажа.
Станислав Говорухин
3. На роль Филиппа Ломбарда Станислав Говорухин пригласил Александра Кайдановского, причем зная о его непростом характере. Но сам Кайданоский изначально хотел отказаться от этой роли, так как он не хотел играть трусливого человека, ведь до этого он появлялся в совершенно других образах.
Вот только из-за некоторых финансовых трудностей, которые у него были на тот момент, он все же согласился на эту роль. Но в процессе съемок актер поменял свое мнение, и он еще не раз рассказывал, как ему понравилось сниматься у Говорухина.
4. А вот на роль Веры Клейсорн (по книге ее звали Вера Клейторн) Говорухин вначале хотел пригласить Веру Глаголеву, но в итоге он решил, что вряд ли Глаголева сможет примерить на себя образ англичанки. Поэтому он решил пригласить на эту роль актрису Татьяну Друбич.
Вот только проблема состояла в том, что в это же самое время Друбич снималась в фильме Сергея Соловьева "Асса", поэтому режиссеру пришлсоь просить коллегу отпустить актрису на съемки "10 негритят".
Ходят слухи, что Сергей Соловьев согласился отпустить актрису на съемки, но при условии, что за это Говорухин снимается в его фильме. Не знаю. правда это или нет, но именно Говорухин сыграл роль криминального авторитета Андрея Крымова в фильме "Асса".
5. На роль мисс Брент режиссер изначально пригласил актрису Ирину Терещенко, но прямо перед самым началом съемок Говорухин вдруг резко передумал и отдал эту роль актрисе Людмиле Максаковой.
Тем не менее, с Ириной Терещенко он прощаться не собирался. Говорухин предложил сыграть ей роль горничной - Этель Роджерс, на что актриса дала свое согласие, хотя и была сильно расстроена. Но она успокаивала себя тем, что ей предстоит сниматься у известного режиссера.
6. На роль Энтони Марстона, который первым выбыл из "игры", Говорухин пригласил Александра Абдулова, с которым он уже ранее работал в фильме "Место встречи изменить нельзя". В начале актер обрадовался, но потом даже немного расстроился, так как прочитав концовку сценария он узнал, что его персонаж погибает самым первым.
А вообще, у Абдулова была привычка читать только начало и конец той части сценария, которая касалась бы его персонажа (то есть, только появление и смерть). И когда съемки эпизодов с участием его персонажа были закончены, актеру стало интересно, кто же является убийцей. Но вместо того, чтобы дать Абдулову внятный ответ, члены съемочной группы давали ложные сведения.
7. В роли судьи Лоуренса Уоргрейва Говорухин видел исключительно Владимира Зельдина. Он предполагал, что Зельдин будет последним человеком, на кого можно подумать ,что убийцей является именно он.
Когда сам Зельдин получил данное предложение, он охотно согласился сыграть убийцу, так как за свою карьеру он еще ни разу не играл подобного рода персонажей.
Проблема была лишь в том, что Зельдин разрывался между съемками и репетициями, так как он был очень востребованным актером. Поэтому на съемки он прилетал буквально на пару дней, после чего улетал домой, а затем прилетал снова на пару дней и возвращался обратно. И так на протяжении всего съемочного процесса.
Из-за такой чехарды Зельдин даже не мог нормально выучить сценарий, поэтому у него то и дело возникали проблемы с текстом во время съемок, что злило режиссера.
8. На роль генерала МакАрутра Говорухин пригласил Михаила Глузского, который оказался той еще врединой. Если Говорухин разрешал актерам импровизировать, то сам Глузский был против такой импровизации, так как он хотел играть четко по сценарию, а вольности актеров лишь затягивали
Как снимали фильм "Человек с бульвара капуцинов": кадры со съемок и 24 интересных факта о фильме
10 минут
78,5 тыс прочтений
21 ноября 2024
Музыкальная комедия-вестерн "Человек с бульвара капуцинов" (1987) стала весьма необычной для советского кинематографа, но тем не менее он смогла завоевать сердца зрителей. И признаюсь честно, в детстве этот фильм мне не сильно зашел, но когда я пересмотрел его уже в подростковом возрасте, то он мне действительно понравился.
И сегодня я хотел бы рассказать, как снимали фильм "Человек с бульвара капуцинов", а также показать вам интересные кадры со съемок этого культового советского вестерна.
1. Сценарий, написанный Эдуардом Акоповым еще в самом начале 80-х годов, пролежал на полке "Мосфильма" долгие 5 лет. Дело в том, что на тот момент снимать подобное кино было слишком дорого, поэтому к нему несколько лет никто не прикасался.
Но в ноябре 1985 года режиссер Алла Сурикова решилась на съемки этой ленты. И как она призналась позже, ей не столько хотелось снять просто фильм, сколько увидеть в образе мистера Фёста Андрея Миронова.
2. На самом деле в названии фильма имеется небольшая ошибка. Дело в том, что на самом деле то самое место называется бульвар капуцинок, который был назван так в честь женского монашеского ордена капуцинок. Именно там в свое время братья Люмьер впервые показали первый фильм "Прибытие поезда".
Узнав об этом, Алла Сурикова решила поменять название на другое, так как ей очень не хотелось, чтобы буква К стояла в начале и в конце слова. Было предложено много вариантов названий, в том числе и "10 капель перед стрельбой", которое очень понравилось самой Суриковой.
Но редактор сценарной коллегии Армен Медведев зарубил это название (как и другие), сославшись на то, что название "Человек с бульвара капуцинов" уже заявлено во всех документах и в рекламе, так что менять ничего не стоит.
3. Именно Андрея Миронова Алла Сурикова видела в роли мистера Фёста, и если бы не он, то возможно фильм и вовсе бы не сняли. Правда, самому Миронову сценарий изначально не очень понравился, поэтому и сниматься в этом фильме у него не было никакого желания. Но когда Сурикова рассказала ему, что сценарий пылился на полке пять лет, и что она вообще никого не видит в роли Фёста кроме Миронова, актер растрогался и дал свое согласие на съемки.
4. На роль мисс Дианы Литтл пробовались такие актрисы как Ирина Розанова, Ольга Кабо, Лариса Удовиченко и многие другие актрисы. Но в итоге роль досталась актрисе Александре Яковлевой, которая на тот момент носила фамилию своего третьего мужа - Аасмяэ. Правда, это произошло не сразу.
Дело в том, что Алле Суриковой требовалась актриса с большим бюстом, которым Яковлева не обладала. Но актриса взяла режиссера напролом и буквально выбила себе эту роль, в шутку пообещав, что над грудью она поработает.
В итоге Алла Сурикова решила доверить выбор самому Андрею Миронову, "нарезав" ему кадры с проб. Посмотрев эти кадры, Миронов выбрал именно Александру Яковлеву.
5. На роль Черного Джека Сурикова изначально планировала взять Николая Караченцова, но данный персонаж ему не понравился. Тогда Сурикова решила привлечь Михаила Боярского. Правда, у того не было времени на съемки, так как он и так почти все время находился на съемочной площадке фильма "Гардемарины, вперед!".
Тогда режиссер пошла на хитрость, сказав, что главную роль в фильме будет играть Андрей Миронов, и что он очень просит Боярского сняться в "Человеке с бульвара капуцинов". Узнав об этом, Боярский тут же согласился уделить свое время съемкам, так как дружил с Мироновым и уважал его.
6. Как я уже писал выше, Николай Караченцов отказался от предложенной ему роли Черного Джека, но зато ему приглянулась роль Билли Кинга. И его не смутило, что по сценарию Билли Кинг был здоровенным амбалом. И когда Сурикова увидела Караченцова в действии, то она решила, что пусть Билли Кинг не будет амбалом.
Караченцов делал всё, что от него требовалось, включая сложные трюки с захватом шеи противника в прыжке с переворотом. Ну как после этого не взять актера на эту роль?
Кстати, как выяснилось позже, Караченцов поспорил с оператором на ящик шампанского, что он сможет исполнить этот трюк самостоятельно всего за 1 день тренировок. Так и вышло, и Караченцов получил свой приз.
7. Роль владельца салуна досталась известному актеру Олегу Табакову. Многие могли заметить, что у Табакова в этом фильме неестественно широкий нос. И как оказалось это был не совсем грим. Чтобы сделать нос актера шире, ему приходилось вставлять в ноздри специальные трубочки.
Кстати, в фильме мы могли увидеть и сына Олега Табакова - Антона. Именно он сыграл молодого официанта и билетера по имени Бобби.
8. Роль одноглазого Мартина досталась Леониду Ярмольнику. Причем, изначально его появление в фильме должно было быть относительно небольшим, но именно с его подачи появилась та самая забавная сцена, когда его герой во время драки не мог спокойно выпить, а также сцена с ногами, которые
Это цитата сообщения Бахыт_Светлана Оригинальное сообщение
Неизвестные детали про Машу из "Офицеров", которые не вошли в фильм
Маша Белкина - самая трагическая героиня фильма. А в книге ее судьба еще печальнее. Во время войны Маша потеряла мать. Разбитая горем женщина закончила школу радистов и отправилась мстить, но для этого пришлось отдать сына. Любимый человек (Егор) погиб на войне, а позже и сама Маша сложила жизнь в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами. Однако мало кто знает, что в киноленту "Офицеры" не вошли важные подробности из жизни Марии и ее мамы. В "Офицерах" нам демонстрируют, как ватага мальчишек дразнит Егора Трофимова "женихом". Вот только проблема была совсем не в том, что Трофимову нравилась девочка с "нашей улицы". Совсем наоборот. Хулиганы дразнили Егора, как влюбленного в "шпионку".
К годовщине лучшего альбома в СССР. Полный разбор шедевра Давида Тухманова «По волне моей памяти»
7 минут
119,2 тыс прочтений
10 сентября 2023
Оглавление
✅ Кто автор музыки?
✅ Откуда взялись тексты?
✅ Кто играл и пел?
Показать ещё
9 сентября 1976 года в музыкальные магазины поступила диковинная пластинка. Уже обложка была необычной: уходящий вдаль горизонт, причудливые образы из разных эпох от мудреца в балахоне и музыкантов в старинных одеяниях до мотоциклиста... Название большими красными буквами: «По волне моей памяти». И скромная фамилия в правом нижнем углу конверта: «Тухманов».
Первые покупатели ещё не знали, какое сокровище держат в руках. Вскоре пластинка стала дефицитом, за ней порой выстраивались целые очереди. Винил запиливали до дыр.
Для многих «По волне моей памяти» стал шоком. Песни с пластинки резко отличались по звучанию от всего, что звучало в то время. Альбом представлял собой целую сюиту, в которой переплелись симфонический размах, тяжесть модной рок-музыки, джазовые импровизации — и стихи разных эпох, словно вступающие друг с другом в диалог.
✅ Кто автор музыки?
Для композитора Давида Тухманова альбом «По волне моей памяти» стал удачной попыткой записать полновесный концептуальный альбом. Лауреат премии Московского комсомола и член Союза композиторов, он не только отлично знал классическое наследие, но и штудировал работы King Crimson, Jethro Tull и Led Zeppelin.
Первым успехом Тухманова был легкомысленный твист «Последняя электричка». Десять лет спустя он написал «День Победы» — не без скрипа принятую старшими коллегами песню, на десятилетия ставшую парадным элементом празднования 9 Мая.
Написав шлягер государственного масштаба, Тухманов получил возможность воплощать амбициозные авторские замыслы: писать сложные аранжировки, подбирать и приглашать нужных исполнителей, экспериментировать в студии. Полученной свободой манёвра композитор воспользовался в полной мере.
✅ Откуда взялись тексты?
Есть доля несправедливости в том, что альбом «По волне моей памяти» по традиции атрибутируют одному Давиду Тухманову. Его тогдашняя супруга Татьяна Сашко стала равноправным соавтором, кропотливо отбирая литературный материал. Выпускница редакторского отделения Полиграфического института, она замечательно чувствовала поэтическое слово.
Многие часы, проведённые в библиотеке, не пропали даром. Поэзия разных эпох придала замыслу вневременную ценность — а заодно помогла преодолеть возможные трудности с цензурой.
Виниловые бороздки пластинки «Мелодии» стали пространством, где встречаются строки из Древней Греции и лирика средневековых вагантов, прозрения эпохи романтизма, французский декаданс и русский Серебряный век. Классическая поэзия ещё никогда не звучала в рок-антураже — с таким изумительным вкусом и драматическим эффектом.
✅ Кто играл и пел?
Давид Тухманов лично подбирал исполнителей, соответствующих его замыслу. В число участников записи попали не самые известные на тот момент, но талантливые и перспективные артисты: восемь солистов и несколько вокальных и инструментальных ансамблей.
В качестве ритм-секции выступили аккомпаниаторы Валерия Ободзинского: Борис Пивоваров (гитара), Аркадий Фельдбарг (бас-гитара), Владимир Плоткин (ударные). Сам композитор играл на фортепиано, органе, синтезаторе, электропиано. Кроме того, в записи приняли участие духовики из ансамбля «Мелодия», струнная группа Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения, вокальные группы оркестра «Современник» и ВИА «Добры молодцы». Звукорежиссёр Николай Данилин колдовал над сведением.
Имён солистов Александра Лермана и Наталии Капустиной на конверте пластинки нет: вскоре после записи они покинули страну. Впоследствии эмигрировал и иранец Мехрдад Бади, но он и не был гражданином СССР.
✅ В чём новаторство?
Дерзкое сочетание роскошных оркестровых партий и гитар с перегрузом, поэзии и рок-музыки дали совершенно взрывной эффект. Продуманное построение придало альбому цельность и завершённость. Это поп-музыка, сделанная с умом и высокохудожественно — но без ухода в дебри. Кстати, ещё одно последствие популярности «По волне моей памяти»: некоторые слушатели вдохновились пойти дальше и принялись исследовать поэзию и философию, читать Бодлера и Ахматову.
Работа над альбомом велась на студии «Мелодии» летом и осенью 1975 года в условиях строжайшей конспирации. Давид Тухманов не раскрывал солистам деталей и названий, давая лишь указания по исполнению и предоставляя готовые инструментальные дорожки.
✅ А теперь — пора и послушать!
Ставим пластинку на проигрыватель — и начинаем волнительное путешествие во времени и пространстве, взяв для эпиграфа строки из заглавной песни:
«Когда это было, когда это было, во сне? Наяву?
Во сне, наяву, по волне моей памяти я поплыву».
🔸СТОРОНА 1
01. «Я мысленно вхожу в ваш кабинет» (Максимилиан Волошин)
Задумчивый перебор клавиш начинает неспешную увертюру, в которой
Это цитата сообщения Stefaniia-Stefa Оригинальное сообщение
Ростислав Ищенко. Лишние люди.
Учившиеся в советской школе помнят, что русская литература очень любила и уважала «лишних людей». Этим, она, кстати, серьёзно отличалась от украинской, преподававшейся в той же советской школе в УССР и, соответственно, прошедшей ту же идеологическую цензуру.
Украинская литература делала акцент на «маленьком человеке», своего рода местном Акакии Акакиевиче. Правда, для украинских писателей-народолюбов даже несчастный Акакий Акакиевич был до невозможности «великим паном» — всё-таки чиновник. Бедный забитый крестьянин — безземельная, а иногда и бездомная нищета — вот идеал украинской литературы.
Потому что «лишние люди», продукт высокой цивилизации, интеллектуалы, настолько уверовавшие в силу своего персонального разума, что в нормальных имперских структурах им стало тесно, и им захотелось большего, а чего большего они не знали. В этом отношении автор Чайльд-Гарольда англо-шотландский аристократ лорд Джордж Гордон Байрон (шестой барон Байрон по мужской линии и родственник Стюартов по женской), погибший «за свободу Греции» (вряд ли он хорошо отличал греков того времени от современных им турок), ничем не отличался от чудившего в Санкт-Петербурге и погибшего на Кавказе автора «Героя нашего времени» (Григория Александровича Печорина) русского аристократа с шотландскими корнями (возможного потомка шотландского барда XIII века Томаса Лермонта) Михаила Юрьевича Лермонтова.
В понимании украинских писателей-народолюбов всё, что выше нищего крестьянина, — то пан, а пан не может быть украинцем, он либо поляк, либо москаль, либо венгр, либо австриец (немец). Украинец (в их интерпретации) был не столько состоянием национальным, сколько социальным. Поэтому в их понимании нищий было равно положительный, а если не нищий (в супе по праздникам курица есть), значит пан или (подпанок). В понимании нынешних «создателей украинской нации» — «промосковский коллаборационист», усвоивший «панскую» городскую культуру с ватерклозетами и асфальтом, интегрировавшийся в неё самостоятельно и осознавший, что украинство всего лишь чудовищно гипертрофированный провинционализм, ничего общего не имеющий с конкретной нацией, но под разными названиями способный проявляться у любой.
В этом плане украинство, при всей своей разрушительности, относительно безопасно в цивилизационном плане, ибо вторично. Украинство может существовать лишь как альтернатива панству: полякам, русским, кому угодно. Без объединяющего в качестве мифического источника всех украинских бед панства украинство расползается по враждующим более мелким региональным идентичностям. Украина потому и боялась потерять Юго-Восток, что «более русские», а скорее менее украинские Крым и Донбасс объединяли против себя (особенно претендовавший на общеукраинскую финансово-промышленную гегемонию Донбасс) остальную Украину, включая значительную часть Юго-Востока. Без них Украина объединялась уже против Харькова, Одессы, Днепропетровска. Если и этих отпустить, то врагами украинства автоматически становились Киев, Чернигов, Черкассы, Кировоград. Следующие враги населяли Волынь и Подолье. В конце концов, пришлось бы делить Галицию на «правильную» — сельскую и «неправильную» — городскую части.
Скандальный заяц Клара Румянова: -Никогда больше не подходи ко мне, - сказала она Рыбникову и отвесила оплеуху
12 минут
81,1 тыс прочтений
23 августа 2024
Ее голос каждый в нашей стране знает с детства. Им поют герои самых любимых мультфильмов. “А облака - белогривые лошадки…”, “С голубого ручейка начинается река…” Крошка Енот, Чебурашка и, конечно, Заяц из “Ну, Погоди!” Всех их озвучила Клара Румянова.
Эта красивая хрупкая женщина, талантливая драматическая актриса, волей судьбы оказалась лишена возможности использовать свои внешние данные. И весь актерский дар, всю душу вложила в голос. Ее имя и голос в стране были известны любому.
А вот как выглядит актриса, публика не знала. Хотя ее внешность свела с ума многих мужчин. Да еще каких. Ей клялся в любви Владимир Высоцкий. А Николай Рыбников добивался ее руки.
Клара Румянова
Но красота не принесла актрисе счастья. Скорее стала причиной бед. После успешного дебюта в фильме Сергея Герасимова “Сельский врач” ее заметили и другие режиссеры. Знаменитый Иван Пырьев был очарован девушкой и предложил роль в своей картине. Стать новой Мариной Ладыниной. Устоять перед таким искушением сможет не каждая.
Но Клара не просто отказалась, она еще и раскритиковала сценарий, который Пырьев писал сам. Простить такое всесильный режиссер не смог. Путь на экран Кларе был закрыт. Жалела ли она о своем поступке? Извлекла ли урок из этой истории? Скорее всего, да.
Рыбников. И золотые часы
Рыбников влюбился в Румянову с первого взгляда. Как только они оказались на одном курсе во ВГИКе. Николай совершенно потерял голову. Он караулил Клару у подъезда, желая объясниться. Но Клара замечала его только для того, чтобы кинуть обидную фразу. А по словам коллег, она могла быть резкой, язвительной, грубой.
Рыбников пытался дарить цветы и конфеты. Но Клара просто швыряла ими в воздыхателя. Тогда он решил подарить что-нибудь по-настоящему дорогое и купил золотые часы. Истратил на них всю стипендию, да еще и у друзей занял. В общем, все как в фильме “Девчата”.
История эта среди киношников прогремела и в конце концов попала на экран. Правда, финал у нее был не такой, как в кино. В жизни было иначе. В ответ на подарок Клара при всех отвесила ухажеру оплеуху и произнесла: -Никогда больше не подходи ко мне.
Взбешенный Рыбников выкинул часы в окно. А потом несколько месяцев сидел на гречке, чтобы отдать долги.
Он решил просить руки Клары у ее мамы. Та была сдержанно-вежлива. Сказала лишь, что не может заставить дочь кого-то полюбить.
В такую красавицу и влюбился Рыбников
А вот Румянова, узнав о визите, просто вышла из себя. Подняла вопрос о поведении Рыбникова на комсомольском собрании. И пообещала пожаловаться в учебную часть. Рыбников с трудом излечился от своей любви, увлекшись другой однокурсницей - Аллой Ларионовой.
За два года до смерти Рыбникова Румянова навестила его в больнице после инсульта.
Николай спросил: -Почему же ты меня тогда отвергла?
Клара с грустью ответила: - Глупая была.
Песни басом
У Румяновой была черта характера, которая портила ей жизнь. Клара не могла просто так с чем-то согласиться. У нее внутри словно сидел какой-то чертенок. То, что Клара решила стать актрисой, отчасти следствие ее непростого характера.
Клара с мамой Анной Петровной
Ей прочили блестящую карьеру певицы. Девочка обладала удивительным голосом. Во время войны она вместе с мамой выступала перед ранеными. Те смеялись до слез. Поскольку хрупкое создание с огромным бантом затягивала песни басом.
“С таким диапазоном тебе прямая дорога в консерваторию”, - говорили ей.
Упрямый бесенок внутри тут же встряхивал рогатой головой. “Ни за что!”
Клара выбрала кино. Удивительное несоответствие ее голоса и внешности подметил режиссер Сергей Герасимов. И взял на свой курс во ВГИКе. Кто бы мог подумать, что ее бас однажды превратится в тоненький детский голосок зайчиков и ёжиков.
Потеря голоса
Студенткой ВГИКа Клара Румянова вместе с однокурсниками ездила по Подмосковью. Чтобы подзаработать, ребята выступали с концертными номерами. В одной из таких поездок девушка сильно простудилась. Да так, что чуть не умерла. Врачи диагностировали крупозное воспаление легких. Месяц в больнице и в результате полная потеря голоса.
Ни о каком продолжении учебы в Институте кинематографии речи быть не могло. Кому нужна безголосая актриса. Но мастер курса Сергей Герасимов очень не хотел расставаться с талантливой студенткой. Заявил: -Она танцует лучше всех.
Он показал ее специалисту-фониатру по голосовым связкам.
Тот не нашел ничего обнадеживающего. “Редкие связки. Говорить она, может, и будет. А вот петь - нет”.
Месяц, а то и больше, Герасимов общался с Кларой записками. Так рекомендовал врач.
А когда голос восстановился, его стало просто не узнать. Новые способности голоса Румяновой проявились в необычной ситуации и поразили всех вокруг. Дело было на съемках картины Сергея Герасимова “Сельский врач”.
Клара Румянова в фильме "Сельский врач" (1951)
Там
Это цитата сообщения Stefaniia-Stefa Оригинальное сообщение
Александр Суворов: «Я …природный русак!»

Дом Василия Ивановича Суворова, отца полководца, дворянина из старинного рода, идущего из тверских земель, из древнего Кашина, тоже не сохранился, сгорел во время наполеоновского нашествия, позднее восстанавливался. Так что загадка года рождения величайшего военного гения России, видимо, так и не будет разгадана. Вполне возможно, что сами родители Александра, жалея своего единственного сыночка, который родился слабым физически, убавили один год его жизни, чтобы позднее отдать его в воинскую службу, а к таковой службе сыночек их явно стремился.
Известен хрестоматийный случай из детских лет будущего полководца, когда в их загородное имение приехал старинный друг Василия Ивановича «арап Петра Великого» и крестник императора чернокожий генерал российской армии Абрам Петрович Ганнибал, они были смолоду знакомы по службе у царя-преобразователя России. Оба, кстати, были крестниками Петра и денщиками (т.е. офицерами для поручений) императора. Потому и взгляды их на беззаветную службу Отечеству совпадали. Абрам Петрович прошёл в светлицу маленького Саши и к своему удивлению застал «болезненного и слабого здоровьем ребёнка», как ему рассказывали, за игрой в солдатики, притом игрой серьёзной, в соответствии со всеми правилами военной тактики на поле боя. Порасспросив Сашу, Абрам Петрович узнал, что тот уже читал труды военных историков Западной Европы, знал и о походах Цезаря и Ганнибала, знал и о славных победах Морица Саксонского и Раймунда Монтекукули - известных европейских полководцев предшествующего века. Ну а о деяниях Петра Великого и его великих свершениях Александру рассказывал отец. Удивлённый и поражённый Абрам Ганнибал вернулся в гостиную к хозяевам и сообщил им, что у их сына сейчас находятся «преславные гости» и предрёк мальчику военную карьеру.

