Это цитата сообщения Нежные_чувства Оригинальное сообщение
Новогодние и Рождественские музыкальные открытки с кодом :)
<< 1 2 3 4 5 >>
 |  |  |  |
 |  | 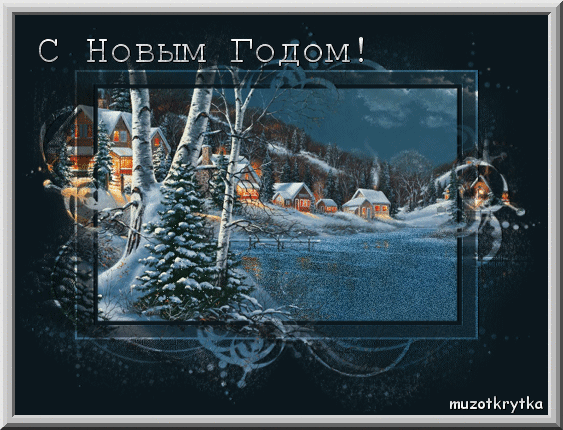 |  |
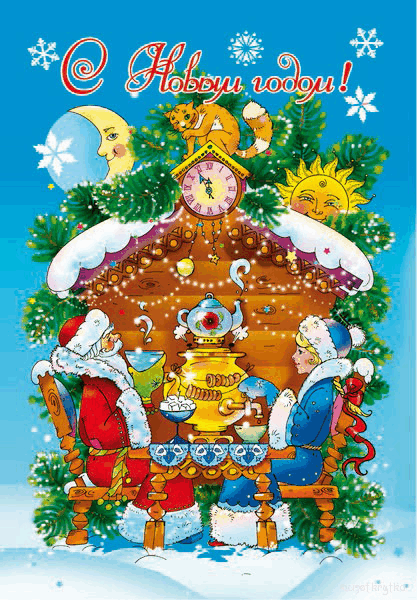 |  |  |
Это цитата сообщения Kailash Оригинальное сообщение
Девочка, которая потрясно играет на гитаре
Девочка играет на гитаре и это у нее неплохо получается, учитывая ее возраст.
Увы, не знаю, как сюда загрузить данный фильм в шести частях... - нЕкогда учиться..
Делаю ссылку на фильм о поисковиках, работающих в районе боёв 2 УА 1941-42 гг
http://pavlovsk-spb.ru/vospominaniya-niorlova-o-doline-smerti/film-qangely-smertiq.html
 [700x525]
[700x525]
Есть такой великий святой Греческой и Русской Православных Церквей — Иоанн Русский (Иоаннис Россос, как с благоговением называют его все греки от мала до велика), единственный, пожалуй, подвижник, получивший в прозвание имя целого народа: «Русский» с большой буквы.
Простой солдат армии Петра Великого, попавший в турецкий плен, проведший там 13 лет и, несмотря на долгие истязания, отказавшийся принять ислам. Он принял мученическую смерть за Христа в 1730 году. Его память и его чудотворные мощи, находящиеся на острове Эвбея, чтит вся Эллада, о нем изданы десятки, даже сотни книг, к нему стекаются тысячи и тысячи паломников, а на Эвбее, переделав известную поговорку, говорят: «Все дороги ведут к святому Иоанну Русскому».
Ивана Русского стали почитать на Эвбее только с 20-х годов ХХ века, когда в Грецию переселились малоазиатские греки, спасаясь от последствий разрушительной войны, и принесли с собой свои святыни. Так Иван Русский стал одним из наиболее почитаемых святых Греции. Ежегодно 26-27 мая сюда приходят десятки тысяч человек, чтобы поклониться святому Ивану Русскому.
Иван Русский родился на Украине (тогда она была частью единого Российского государства) в 1690 году. Будучи еще подростком, в 1711 году он был рекрутирован в солдаты. После многих сражений, в которых проявил мужество и отвагу, Иван попал под Азовом в плен к туркам и был переправлен в Константинополь. Из Царьграда его отвезли в городок Прокопио близ Кесарии Капподокийской в Малой Азии, и он оказался в подчинении у некоего Аги, содержавшего лагерь янычаров.
В плену от Ивана потребовали отречься от православной веры, в которой он был воспитан. Иван, хоть и не отказывался служить Аги, был тверд в своей вере и не соглашался принять ислам. Турецкий вельможа не привык, чтобы ему отказывали, и велел подвергнуть Ивана всевозможным пыткам. Несчастного били толстой деревянной палкой, пинали ногами, душили, жгли раскаленным железом. Тот терпел побои и унижения, но своих убеждений не оставлял, чем вызвал невольное уважение и у тех, кто его пытал.
Много дней продолжались мучения. На ночь турки бросали солдата в хлев, где он спал вместе с животными. После нечеловеческих пыток Иван страстно молился и еще больше укреплялся в православной вере. Турки и все многонациональное население тогдашнего Прокопио были поражены силой веры и мужеством русского солдата. Постепенно слух о необычном узнике распространился по всем окрестным селениям, где жило немало православных греков, жестоко притеснямых турками. Наконец, непокорным заинтересовался и сам турецкий паша.
— Отвечай, почему упорствуешь, почему не хочешь перейти в нашу веру? — грозно спросил паша.
— Я верую в Бога моего Иисуса Христа, — отвечал русский солдат. — Мне нипочем пытки и мучения, от них моя вера становится еще крепче!
Паша изумился такой дерзости и приказал продолжать пытки непокорного. На протяжении многих лет пленник жил в хлеву вместе со скотом и выносил голод и истязания. 27 мая 1730 года в возрасте примерно сорока лет Иван Русский скончался.
Местные христиане выпросили у турок тело Ивана и похоронили его. По тамошнему обычаю, через три года они открыли могилу, чтобы перезахоронить кости, и были поражены: тело покойного не было тронуто тлением.
Прознавший про это паша еще больше разгневался. Однажды, в момент внутреннего кризиса в Оттоманской империи, посланный султаном паша решил наказать бунтующих христиан и приказал сжечь мощи Ивана Русского. По его приказу янычары бросили останки солдата в костер. Когда турки ушли, местные жители кинулись разгребать тлеющие угли. Но тело праведника не было повреждено и лишь почернело от огня, а слава святого еще больше упрочилась.
Ирина САВИНОВА
(Великий Новгород)
: памяти павших у Мясного Бора солдат...
И В А Н - Ч А Й
По неприметным лёгким тропам
К опушке вышла невзначай.
По блиндажам и по окопам
Зарёй пылает иван-чай.
Росой студёною умытый,
Он всех гостей приветить рад –
Земная память об убитых,
Пропавших без вести солдат.
Поляна предо мной. Два блиндажа по краю,
И россыпь ржавых гильз, как оспа на траве.
Когда-то здесь была передовая…
Рассказ фронтовиков припоминаю.
Тревожно мысли бьются в голове.
Лесной тропой шёл юный политрук –
Сказали: Здесь и ближе, и вернее,
Бомбят настил, да и даёт он крюк –
Живым не доползёшь до батареи.
Что за морозы были в том году:Смерзались губы, трескались подмётки.
Он не сдавался: « Шутишь! Я дойду!
Пускай комбат готовит кружку водки!»
В полку усталый встретил комиссар.
- Впервой на фронт? Что пишут в направленьи?
Давай к столу - горячий самовар,
У Керести твоё подразделенье.
В дверях его окликнули: -Постой!
Да ты, голубчик, в тоненьких сапожках!
Так завтра же в санбат с передовой…
А ну вернись и обожди немножко.
Но старшина вернулся через час:
- Всё, что нашёл,- и подал осторожно
Два валенка. Один был в самый раз,
А во втором НЗ упрятать можно.
- Не обессудь за это, политрук…
И отвернулся старшина чубатый.
- Они, браток, тебе из разных рук…
Вчера погибли…славные ребята.
Так в разных валенках за ним пришла война.
Он отыскал у речки батарею.
И кружка была налита сполна,
И ноги, наконец-то отогрелись.
Апрель на фронте захлебнулся
Потоком разъярённых вод.
Вчера прорыв опять сомкнулся,
Не досчитать пехотных рот.
Всю ночь не спится командарму.
Приказ короток и жесток-
Пробить проход Второй Ударной:
Она выходит на восток.
Военачальников таланты
Распоряжаются судьбой.
И курсы младших лейтенантов
Идут с занятий прямо в бой.
Курсанты – славные ребята
И понимали: не для них
Весна наступит в сорок пятом-
Шли в бой за мёртвых и живых.
Их аттестаты без фамилий
В штабных делах ещё лежат,
Ещё родным не сообщили,
Что выбыл с курсов адресат,
А перед ними расступилась
В неравной схватке цепь врага.
Не на погон звезда скатилась-
Упала в талые снега.
И все рассветы и закаты
Её не в силах погасить.
В земле родной лежат солдаты,
Их звёзда сыновьям носить.
В лесу буянила весна.
Воды болотной по колено.
Какие сутки не до сна –
Фашист кругом грозится пленом.
Как будто небо над тобой
На крыльях свастикой распято.
И только бой. Кромешный бой.
И нет ни шанса на расплату.
Легко быть комиссаром в наступленьи.
Душе легко –
вперёд и лишь вперёд!
Но армия осталась в окруженьи.
Была весна.
Шёл сорок второй год.
Что скажешь, Политрук?
Чем сможешь- выручай!
Снарядов нет.
Орудия замолкли.
Сухарь последний съели в Первомай.
И что ни шаг-
смертельные осколки.
Враг с каждым днём
сжимает адский круг.
Погибнем без
 [500x375]
[500x375]
Впервые в район Мясного Бора я попала летом 1966 года по заданию редакции молодежной газеты. Комитет комсомола конденсаторного завода организовал поход по местам боев для заводских допризывников. Именно тогда довелось мне познакомиться с замечательным человеком, первым беззаветным исследователем «Долины смерти» Николаем Ивановичем Орловым, в то время — путевым обходчиком железной дороги.
Первый поход потряс душу: мне довелось воочию повстречаться со следами войны, еще не исчезнувшими с лица земли. Следами ощутимыми, осязаемыми — снаряды, разбитые машины, старые обвалившиеся блиндажи... В газете появился очерк об этом походе.
А через два года встречает меня секретарь комитета комсомола химкомбината Алексей Скала и приглашает снова в поход с его комсомольцами. Конечно же, я согласилась. Это было в апреле 1968 года. Именно тогда у походного костра было принято название родившемуся отряду — «Сокол». Душой и опорой его стал комитет комсомола, командиром — Н. И. Орлов, к тому времени перешедший работать на химкомбинат.
Началась наша походная жизнь: рюкзаки, костры, ночевки в лесу и трудная поисковая работа. В те годы в леса у Мясного Бора ходили немногие смельчаки, поэтому мы натыкались порой на места «последнего боя»: останки солдат, винтовки, гильзы возле проржавевшего пулемета...
Весной 1969 года на старом кладбище за рекой Кересть мы искали следы могилы погибшего здесь начальника политотдела армии И. П. Гаруса. Об этом месте сообщили Н. И. Орлову бывшие фронтовики. И вот возле одного осевшего захоронения видим: стоит полусгнивший деревянный столбик-пирамидка. На земле валяется алюминиевая дощечка. На ней выцарапана ножом надпись: «Здесь покоится прах одной из лучших фронтовых подруг, старшей медсестры 364-го ППГМарсаковой Таисии Никитичны».
На счастье — наше и родных девушки — были указаны даты рождения и гибели медсестры: сентябрь 1921 года — май 1942 года. Этих скупых данных оказалось достаточно, чтобы получить ответ из Подольска, из Центрального архива Министерства обороны СССР: «Рядовая Марсакова Таисия Никитовна, 1921 г. рождения, уроженка Куйбышевской области, Борского района, д. Коновалова... значится пропавшей без вести в октябре 1942 года...»
К осени 1942 года трагическая эпопея 2-й Ударной уже закончилась: кто выжил и выбрался из окружения, пошел дальше по фронтовым дорогам, кто попал в плен — уже несколько месяцев мыкался по концлагерям, а те, кто остались лежать костьми в новгородских болотах, были зачислены в пропавшие без вести. К осени закончился этот учет и потому-то, хотя медсестра погибла в мае, в списки пропавших зачислена в октябре.
Что значит для близких сообщение о родном человеке, десятилетиями считавшемся пропавшим без вести, поясняет история дальнейших поисков Марсаковых. Письмо в Куйбышевскую область было отправлено нами в воскресенье, шло оно до Коноваловки четыре дня. Деревня эта находится в ста километрах от Куйбышева (ныне Самара). Но уже в субботу две сестры и брат Марсаковы были у нас в Новгороде!
К большому сожалению, мать Таисии скончалась несколько лет назад. Но она, по словам ее детей, постоянно верила, что придет, непременно придет какая-нибудь весточка от ее Таси. И материнское сердце не ошиблось.
Меня нередко спрашивали: не наскучили вам эти хождения по болотам, копания по локоть в болотной грязи, в воронках, залитых водой? Такую работу многие не выдерживали и уходили из отряда. Зато оставшиеся стали настоящими поисковиками, верными товарищами. Сколько лет прошло с той поры! У нас уже выросли дети и давно сменили нас в походном строю. А мы, «старые соколы», с искренней радостью встречаем друг друга. Как они дороги моему сердцу: Валентина и Александр Калинины, Сергей Цветков, Валентин Андреев, Игорь Мартьянов, Вера Амелина, Тамара Знышева... «Сокол» практически первым начал поисковую работу в районе окружения 2-й Ударной армии. Не было ни опыта, ни должного снаряжения. Походное имущество и продукты — все приобретали на свои средства. До места поисков, особенно в обратный путь, добирались попутным транспортом или рейсовым автобусом.
Кроме этих материально-физических трудностей была и другая, более неподатливая — общественное мнение, которое сложилось в народе еще осенью 1942 года, когда по всем воинским частям было объявлено о предательстве генерала Власова и сдаче в плен 2-й Ударной. Спустя десятилетия это мнение пребывало в силе: стоило где-нибудь, в Москве или Ленинграде, начать разговор о наших поисках, реакция слушателей, конечно, из старшего поколения, была резкой и однозначной: «Власовцы! Предатели!»
К чести наших новгородцев, они весьма скоро

18 ноября в России официально празднуют день рождения Деда Мороза.
Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы.
Интересно, что в 1999 году Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза.
Особенно тщательно к этому празднику готовятся на родине именинника. В этот день открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить поздравление для Деда Мороза. Этой возможностью с удовольствием пользуются и местные детишки, и приезжие туристы.
Поздравить сказочного именинника приезжают его многочисленные родственники — Санта-Клаус из Финляндии, Чисхан — якутский Дед Мороз, карельский Паккайне, зимний сказочник Микулаш из Чехии, Снегурочка из Костромы, а также официальные делегации из Вологды, Москвы, Нижнего Новгорода и многих других городов.
А надежные помощники Деда Мороза каждый год готовят ему в подарок новый костюм, украшенный самобытной вышивкой. А дети зовут его ласково — «Дедушка Мороз».
 [640x456]
[640x456]
Красота спасёт мир... и ЛЮБОВЬ !!!
Любите, помогайте, прощайте друг-друга! И наш мир станет прекраснее!!
Это цитата сообщения Дайтека Оригинальное сообщение
Карикатуры)))
Всем привет! Удачных Вам выходных!
 [показать]ДАЛЕЕ ...
[показать]ДАЛЕЕ ... Это цитата сообщения О_себе_-_Молчу Оригинальное сообщение
Julius Schnorr von Carolsfeld (иллюстрации к Библии) - 1
Прошу прощения, но пришлось перезалить картинки, т.к. в первом посте они "убежали"...
Вообще-то я человек далёкий от религиии, но эти гравюры, как и гравюры Доре, вызывают восхищение.
Классик графики
ЧАСТЬ 1
 [показать]
[показать] Первый день творения
 [468x698]
[468x698]Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершает пастырскую поездку по Украине. В ходе визита он дал эксклюзивное интервью \"Вестям\". Вести.Ru публикуют полный текст интервью.
- Ваше Святейшество, вы начали вашу пастырскую поездку с матери городов русских. Каковы ваши главные впечатления, как вас принимали киевляне? И как бы вы оценили воцерковленность жителей Киева? Потому что украинские верующие, они всегда говорили, что даже в жестокие гонения им удавалось сохранить особенную веру и благочестие, даже в большевистское время.
- Вот это самое яркое впечатление от встречи с верующими людьми. Я не могу подсчитать, сколько тысяч присутствовало за богослужением в Киево-Печерской Лавре, но это было большое количество людей. И совершая ведь богослужение, очень чувствуешь, светским языком выражаясь, аудиторию. Ведь все богослужение происходит и молитва происходит вот на каком-то таком уровне, в который включается духовное измерение человеческой жизни. И даже иногда в храме присутствие просто неверующих или враждебных людей разрушает целостность вот этого духовного делания. Вот в советское время мы это очень ощущали: совершаешь литургию, вдруг экскурсанты приходят в храм в большом количестве. И всё, разрушается тайна этой общинной молитвы, тайного общего воздыхания Господу. Вот то, что я очень глубоко пережил, это горячую молитву людей в Киево-Печерской Лавре. Живая вера. Настолько сильная, что эта вера действительно способна переставлять горы. И я не могу социологически как бы в данном случае оценивать степень религиозности украинского общества. Этим, наверное, какие-нибудь специальные агентства занимаются. Но я чувствую, насколько сильна и горяча вера православных украинцев. И благодаря этому, конечно, и в советское время гонения не достигали цели. Да и благодаря этому сегодня, несмотря на многие проблемы в общественной жизни Украины, сохраняется все-таки вера, надежда у людей и, я бы сказал, оптимистический взгляд в будущее.
- То есть миссионерская проповедь здесь может вестись более традиционным для церкви языком, вам кажется?
- Должен сказать, что молодежь на Украине такая же, как и в России. Язык должен быть для них понятным, так же как для молодежи, живущей в Москве или Санкт-Петербурге. Но что касается традиционно верующих людей, то они ведь понимают слово церкви сердцем. Апелляция к разуму человека здесь не так важна, как в том случае, когда церковь обращается к светскому секулярному обществу, к обезбоженному сознанию. Но церковь должна заниматься и одним, и другим – и традиционных своих верующих поддерживать, жизнью, примером нашего духовенства, благочестивым словом, горячей молитвой, но не забывая при этом и о необходимости обращать свое слово к современному обществу.
- Собираясь в эту поездку, вы говорили, что о судьбах православия на Украине сможете поразмышлять после того, как пообщаетесь с украинскими братьями и сестрами. Сейчас вы с ними уже немножко пообщались, есть какие-то уже начала размышлений о судьбах?

- Несомненно, есть. Есть понимание того, что никакие частные политические, исторические, политико-философские воззрения не могут сегодня послужить благу Украины и украинскому народу, если эти воззрения не разделяются большинством людей. Попытка перетягивать канат, попытка тянуть одеяло на себя, попытка строить политику \"все или ничего\" - это значит совершать нечто очень опасное для целостности украинского народа и для будущего страны. Церковь призвана работать поверх границ, в том числе и политических границ, поверх исторических симпатий и антипатий, поверх всего того, что разделяет людей. Потому что церковь - это уникальная общность. Она объединяет тех, кто имеет веру в сердце. И вот эта солидарность людей внутри церкви - она же является закваской солидарности всего общества. Церковная деятельность способна гармонизировать национальную жизнь. Я думаю, что вот этим потенциалом объединения в полной мере обладает Украинское Православная Церковь Московского Патриархата. Истинная, каноническая, историческая поместная церковь для этого народа. И я от всего сердца желаю блаженнейшему владыке Митрополиту Владимиру, иерархии этой церкви, духовенству, верующему народу, найти в себе силы не вовлекаться в распри века сего, чтобы не потерять самое главное. Потому что любая политизация церкви, занятие той точки зрения, которая исключает приход в церковь представителей другой точки зрения, опасна для пастырского служения. И я радуюсь тому, что церковь сегодня наша на Украине в полной мере идет тем путем, которым только и должна идти церковь, объединяя весь народ.
- Сегодня чуть ранее вы сказали, что в любом конфликте виноваты обе стороны. Вот если рассматривать ситуацию
 [478x665]
[478x665]Казнь педофила.
Кадры, подробно описавшие торжество правосудия в стране Йемен, сегодня, 7 июля, облетели весь мир. С одной стороны они позволяют сказать, что возмездие свершилось. С другой – содрогнуться от ужаса.
Пленка сразу нескольких репортеров запечатлела публичную казнь в столице этого государства – Саны. На площади у главной тюрьмы в понедельник, 6 июля, был убит парикмахер Эхья Хусейн аль-Рагвах. Посмотреть на то, как преступника отправят на тот свет, собралась многотысячная толпа.
Эхья Хусейн был обвинен в изнасиловании и жестоком убийстве 11 летнего мальчика Хамди аль-Кабаса. Подросток в прошлом году в день празднования священного мусульманского праздника Ид-Ад-Атха (в России он больше известен как Курбан-Байрам, День жертвоприношений) зашел к местному цирюльнику подстричься. Как следует из признаний, сделанных на суде самим Эхья Хусейном, ему понравился маленький клиент. Поэтому сначала он изнасиловал мальчишку, а после, испугавшись последствий и мести родственников, был вынужден убить его. Чтобы скрыть следы преступления убийца расчленил тело на несколько кусков и по одному выбросил их за городом.
Арестовали Эхью Хусейна уже в декабре. Расследование не было долгим – спустя месяц было получено признательное показание и вынесен суровый приговор. Общественность не посвятили во все детали проведенного следствия и процесса. Поэтому трудно судить о том, насколько обоснованным стал вердикт. Во всяком случае, некоторые правозащитники сомневаются, что признательные показание не могли быть получены под воздействием пыток.
Впрочем, в самом Йемене, похоже, сомневающихся в виновности парикмахера не осталось. Толпа ликованием встретила процесс приведения в исполнение смертной казни, внимательно наблюдала не только за всеми приготовлениями, но и за ее заключительной частью. Все это отразила бесстрастная пленка. На ней – каждый этап казни: от вывода закованного в наручники преступника до выстрела палача из автомата.
Эта казнь стала уже девятой в Йемене, одной из 53 стран в мире, где до сих пор существует высшая мера в виде лишения жизни. Но именно убийство Эхью Хусейна вызвало такой ажиотаж среди местного населения и шок в во всем немусульманском мире.
Причин тому несколько. Одна из главных – религиозная. Свое преступление парикмахер совершил (если это действительно он убил мальчишку) в дни одного из самых крупных мусульманских торжеств. Праздник Ид-Аль-Атха – длится три дня, и в течении всего этого времени каждый правоверный истово просит прощения у окружающих за причиненные обиды. Они посещают могилы предков и молят Аллаха о добре и мире. Это время, когда можно получить отпущение грехов, но никак не совершать новые. Таким образом, степень злодеяния, совершенного в такие дни возрастает многократно. Для весьма религиозного населения Йемена это очень важная вещь. Потому-то и реакция на расправу с Эхью Хусейном была соответствующая.
С другой стороны – насилие и жестокое убийство ребенка. Такой аргумент хорошо понимают в западном обществе. Хотя фактами именно насилия над детьми в самом Йемене трудно кого-то удивить. В стране до сих пор процветает торговля детьми. Выдача девочек замуж с исполнением всего круга супружеских обязанностей уже с 5 лет.
Страна нищая и часто дети из бедных семей: мальчики и девочки – вынуждены зарабатывать себе и близким кусок хлеба собственным телом. Часто для этих целей их вывозятся в соседнюю – еще более набожную Саудовскую Аравию. Только в 2008 году правозащитными организациями было зафиксировано несколько сотен случаев насилия над детьми, за которые никто не понес ответственность. И это только те, о которых стало известно.
Не становятся шоком и убийства. Уж точно - они не вызывают такого резонанса, как в случае с парикмахером из Саны.
Так минувшей весной без какого-либо ажиотажа был казнен бывший пилот ВВС страны Абдула Азиз эль-Абди, убивший еврея в прошлом декабре. Суд северо-западной провинции Амран первоначально приговорил его к смерти, поскольку Азис дал признательные показания. Но приговор был смягчен: преступника посчитали психически неуравновешенным, и обязали его выплатить 27 тысяч долларов семье убитого в качестве компенсации – «за кровь». Лишь после протеста еврейской общины, насчитывающей 400 человек Верховный суд пересмотрел это решение. Смертный приговор все-таки был приведен в исполнение.
С точки зрения западного обывателя еще более кошмарно звучит другая история. Жительницу Саны расстреляли в минувшем апреле. Женщина была признана виновной в убийстве мужа. Она утверждала, что лишила супруга жизни из-за того, что он пытался изнасиловать их младшую дочь, которой было на тот момент всего 7 лет.
У 40-летней обвиняемой осталось семеро детей. Женщину приговорили к смертной казни еще в 2003-м году. Но, по законам Йемена, она могла избежать расстрела, если бы кто-нибудь из ее детей выразил такое
Вы абсолютно гениальный. И не важно- в одной отрасли, или во всём! Главное- гений и вы этим гордитесь! Добро пожаловать на мой дняв. я думаю, вы найдёите там кое-что интересное)))
 [512x337]
[512x337]Посмотрел вчера репортаж о том, как Патриарх Кирилл, разъяснял Президенту Украины Ющенко, что такое "Патриарх всея Руси" и решил сделать вот такой пост:
Была ли Украина колонией России?
В 1917 году на территории нынешней Украины вводилось в употребление слово «украинец». Сохранились воспоминания современников о том, что русские и малороссы спрашивали друг друга, где в нем ставить ударение. Слово для них было новым. Сегодня кажется невероятным, но даже предки нынешних антирусски настроенных галичан – (Галиция с XIV века сначала была частью Польши, затем – Австрийской империи) — до сравнительно недавнего времени сознавали себя русскими и в качестве таковых противостояли польскому засилью и влиянию в крае. В 1848 году австрийский губернатор Галиции граф Стадион обратил внимание Вены на опасность называть русскими галичан. Австрийские власти официально переименовали местное население в рутенов. Просто людям сказали, что с сегодняшнего дня они рутены, а не русские.
Российские имперские круги не рассматривали девять малороссийских губерний, в которых первая в России перепись населения 1897 года показала преобладание малороссов, как отличающиеся от центральных губерний регион, в пределах которого нужно было бы осуществлять определенную национальную, а тем более некую «колониальную» политику. Собственно, в программе переписи даже не было вопроса о национальности. Когда эксперты Центральной Рады в 1917 году определяли границы Украины, они руководствовались данными этой переписи о родном языке и конфессиональной принадлежности.
Напоминаем об этих фактах не для того, чтобы как-то умалить роль украинцев в мировой истории. Дело в том, что сегодня одним из наиболее культивируемых на государственном уровне в общественном сознании украинцев исторических мифов является миф о колониальной политике России по отношению к Украине. (1) Этот тезис стал аксиомой, не требующей доказательств и, как нечто само собой разумеющееся, присутствует как в научной литературе, так и в учебниках для общеобразовательных школ. Однако тезис о колониальном положении Украины противоречит фактам. Действительно, о чем речь, если украинцы со времен воссоединения с Россией считали себя русскими и пользовались равными со всеми российскими верноподданными правами?
В XIII веке, после татарского погрома, единая Русь оказалась разделенной на две части, получившие названия Малой и Великой Руси. При этом слово «малая» в названии «Малая Русь» нисколько не означает «меньшая по рангу» или «неполноценная». Наименования «Малая Русь» и «Великая Русь» пустили в обиход византийские греки, которым для продолжения отношений по церковным делам с расколотой надвое Русью, потребовалось отличать одну ее часть от другой. Согласно античной традиции, в которой давались эти названия, «малая» — значит «исконная», «изначальная», территория первоначального пребывания народа и зарождения его цивилизации, а «великая» — область дальнейшего распространения этого народа и расширения его владений. Малая Русь длительное время пребывала под иноземным владычеством, однако, несмотря на это, население ее твердо хранило свое русское имя и отстаивало православную веру.
Собор Святого Андрея
 [489x698]
[489x698]Самосознание киевской и львовской элит того времени было однозначно русским. Именно в стенах Киево-Могилянской академии, Киево-Печерской Лавры разрабатывалось историческое и идеологическое обоснование воссоединения Руси. Еще в 1621 году Киево-Печерский иеродиакон Захария Копыстянский пишет православный апологетический трактат «Полидония», в котором прославляет мужество «народа российского, северная часть которого покорила Казань и Астрахань, а другая часть яфеторосского поколения, в Малой России, выходячи… татары и места турецкие на море чолном воюет».
В 1654 году гетман Богдан Хмельницкий говорил: «Для того собрали мы Раду, явную всему народу, чтобы вы с нами выбрали себе государя из четырех, кого хотите: первый царь — турецкий, который много раз через послов своих призывал нас под свою власть; второй — хан крымский; третий — король польский, который, если захотим, и теперь нас еще в прежнюю ласку принять может; четвертый — есть Православный Великой России государь, царь Великий князь Алексей Михайлович, всея Руси самодержец восточный, которого мы уже 6 лет беспрестанными молениями себе просим. Тут которого хотите выбирайте». Народ завопил: «Волим под царя восточного православного! Лучше в своей благочестивой вере умереть, нежели ненавистнику Христову, поганцу достаться».
Во времена царствования Алексея Михайловича, вступление России на арену европейской жизни вызвало оживление идеи о значении Москвы в истории христианского
Это цитата сообщения Дайтека Оригинальное сообщение
А ,Ты, меня любишь?)
не забудьте включить звук
Это цитата сообщения Дайтека Оригинальное сообщение
История одного карандаша.
Надеюсь Вам тоже понравится.
включите звук
Оформление самой флеш-открытки на 5+, ничего лишнего.





