"Смолянки" Д.Г. Левицкого
14-03-2012 21:10
к комментариям - к полной версии
- понравилось!
Это цитата сообщения Бусильда50 Оригинальное сообщение
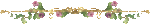 [575x100]
[575x100]
 [показать]
[показать]
Не нимфы ли богинь пред нами здесь предстали?
Иль сами ангелы со небеси сошли,
Ко обитанию меж смертных на земли,
Что взоры и сердца всех зрителей питали,
Как солнечны лучи, так взоры их сияют,
С красой небесною краса всех нимф равна;
С незлюбием сердец невинность их явна;
Конечно, божество они в себе являют.
Как сад присутствием их ныне украшался
Так будет краситься вся русская страна.
Так писал Александр Петрович Сумароков о "важном событии - «первом выходе на гулянье в Летнем саду благородных воспитанниц Смольного института».
В том же 1773 году состоялись публичная церемония перевода девиц «среднего возраста» в «старший» и первый большой выезд воспитанниц в свет, обставленные необычайно пышно и торжественно.
1774 год был отмечен праздником по случаю заключения мирного договора с Турцией.
В 1776 году происходил выпуск из института девиц «старшего возраста».
Все эти события сопровождались балами, маскарадами, концертами и театральными представлениями.
После первых институтских спектаклей Екатерина заказала Дмитрию Григорьевичу Левицкому портреты воспитанниц. Девушек надлежало изобразить в театральных костюмах, соответствующих игранным ими ролям. Вероятней всего, портреты заказала не сама императрица, а И. И. Бецкой, страстно влюбленный в одну из них, Алымову. Портретисту позировали воспитанницы, отличившиеся особенными успехами в науках и искусствах. Работа над серией завершилась в 1776 году, что совпало по времени с первым выпуском учениц. По окончании курса большинство изображенных девушек (Нелидова, Левшина, Борщова, Алымова и Молчанова) были предназначены императрицей фрейлинами ко двору супруги наследника престола Павла Петровича, великой княгини Наталии Алексеевны.
Портрет Феодосии Степановны Ржевской и Настасьи Михайловны Давыдовой (1772г.)
 [393x599]
[393x599]
Ф. Ржевская изображена в голубом форменном платье, установленном для воспитанниц второго возраста Воспитательного общества благородных девиц; Н. Давыдова представлена в форменном платье кофейного цвета, установленном для первого (младшего) возраста.
Эта маленькая смуглая грузинская княжна держит в руке белую розу — символ юности и добродетели. Девочки демонстрируют свои светские манеры, утверждая тем самым успехи института в воспитании юношества.
<<
Портрет Екатерины Николаевны Хрущовой и Екатерины Николаевны Хованской (1773г.)
 [455x599]
[455x599]
Девочки разыгрывают сцену из комической оперы-пасторали Киампи «Капризы любви, или Нинетта при дворе». Смуглая 10-летняя Катя Хрущова (слева) играет мужскую роль влюбленного пастушка и одета в соответствующий костюм — в институте, где учились одни девочки, она прославилась этим амплуа. «Пастушок» треплет по подбородку свою партнершу жестом опытного волокиты.
Роли были распределены согласно характерам девочек. Катя Хованская задумчива и мечтательна, нежность ее натуры находит отклик в непревзойденном по живописному богатству, тончайше разработанном цвете ее наряда. Одетая пастушком КатяХрущева живей, энергичней и веселей своей подруги. Сквозь театральное жеманство жестов пробивается непосредственная радость молодости.
Портрет Екатерины Ивановны Нелидовой (1773г.).
 [366x599]
[366x599]
Будущая фаворитка императора Павла изображена танцующей менуэт на фоне театральной декорации — пейзажного парка.
На 15-летней девушке надет сценический костюм (светло-коричневое, с сероватым отливом, отделанное розовыми лентами платье из упругого шелка, кокетливая соломенная шляпка, украшенная цветами и лентами), один из тех, в которых она выступала в придворных балетах. Полагают, что она изображена в костюме Сербины — очаровательной и остроумной плутовки из оперы Перголези «Служанка-госпожа». Поза Нелидовой — секундное мгновение между завершением одного танцевального па и переходу к следующему.
Портрет Александры Петровны Левшиной (1775г.).
 [391x599]
[391x599]
Девушка изображена в танцевальной позе, она представлена в сценическом костюме, судя по всему, в том, в котором она с большим успехом сыграла роль Заиры в одноименной трагедии Вольтера, которую ставили в Смольном.
Портрет Екатерины Ивановны Молчановой (1776г.).
 [533x699]
[533x699]
Екатерина Молчанова изображена в белом шелковом платье, установленном для воспитанниц старшего (четвертого) возраста Воспитательного общества благородных девиц. Справа на столе — антлия (вакуумный насос), использовавшийся как пособие при обучении смолянок. В левой руке она держит книгу. Этот атрибут позволяет воспринимать изображение и как Аллегорию Науки (или Декламации).
Кстати, Екатерина Молчанова одна из пяти лучших выпускниц Смольного института, удостоенных Золотой медали первой величины.
Портрет Глафиры Ивановны Алымовой (1776г.).
 [449x600]
[449x600]
Одна из лучших арфисток своего времени изображена с любимым инструментом, который одновременно делает её и Аллегорией Музыки. Она также одета в форменное парадное платье из белого шелка, установленное для воспитанниц IV (старшего) возраста, которое выглядит особенно роскошно: это платье «полонез» с «хвостом» и «крыльями» на большом панье (каркасе из китового уса). Подол юбки украшен фалбалой, а лиф — пышными бантами. Нити крупного жемчуга обвивают длинные локоны, драгоценные камни вплетены в прическу. Эту роскошь связывают с тем, что к этому времени юная Глафира уже стала предметом всепожирающей страсти И.И. Бецкого, одного из основателей Смольного.
Готовые портреты были помещены в резиденции императрицы — Петергофe: их местопребыванием стала Куропаточная гостиная (или будуар), открывавшая анфиладу женских комнат (в настоящий момент там экспонируются копии). Согласно мнению большинства исследователей, полотна являлись частью общей дворцовой «сцены», и в центре находился портрет Левшиной, обрамленный двумя своеобразными триптихами: Ржевская с Давыдовой, Нелидова и Хрущева с Хованской — с одной стороны, и Борщова, Молчанова, Алымова — с другой.
Цикл поступил в Русский музей из Петергофского дворца после Февральской революции 1917 года. Еще только когда Русский музей формировался, комиссия неоднократно обращалась к царю с просьбой об их передаче, но всегда наталкивалась на решительный отказ. И вот, наконец, после долгих лет разрешение на получение портретов было дано.
В 2008 году картины отправлены на реставрацию. В сентябре 2010 года картины вновь выставлены в корпусе Бенуа Русского музея.

вверх^
к полной версии
понравилось!
в evernote
Это цитата сообщения Бусильда50 Оригинальное сообщение
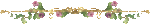 [575x100]
[575x100] [показать]
[показать]Не нимфы ли богинь пред нами здесь предстали?
Иль сами ангелы со небеси сошли,
Ко обитанию меж смертных на земли,
Что взоры и сердца всех зрителей питали,
Как солнечны лучи, так взоры их сияют,
С красой небесною краса всех нимф равна;
С незлюбием сердец невинность их явна;
Конечно, божество они в себе являют.
Как сад присутствием их ныне украшался
Так будет краситься вся русская страна.
Так писал Александр Петрович Сумароков о "важном событии - «первом выходе на гулянье в Летнем саду благородных воспитанниц Смольного института».
В том же 1773 году состоялись публичная церемония перевода девиц «среднего возраста» в «старший» и первый большой выезд воспитанниц в свет, обставленные необычайно пышно и торжественно.
1774 год был отмечен праздником по случаю заключения мирного договора с Турцией.
В 1776 году происходил выпуск из института девиц «старшего возраста».
Все эти события сопровождались балами, маскарадами, концертами и театральными представлениями.
После первых институтских спектаклей Екатерина заказала Дмитрию Григорьевичу Левицкому портреты воспитанниц. Девушек надлежало изобразить в театральных костюмах, соответствующих игранным ими ролям. Вероятней всего, портреты заказала не сама императрица, а И. И. Бецкой, страстно влюбленный в одну из них, Алымову. Портретисту позировали воспитанницы, отличившиеся особенными успехами в науках и искусствах. Работа над серией завершилась в 1776 году, что совпало по времени с первым выпуском учениц. По окончании курса большинство изображенных девушек (Нелидова, Левшина, Борщова, Алымова и Молчанова) были предназначены императрицей фрейлинами ко двору супруги наследника престола Павла Петровича, великой княгини Наталии Алексеевны.
Портрет Феодосии Степановны Ржевской и Настасьи Михайловны Давыдовой (1772г.)
 [393x599]
[393x599]Ф. Ржевская изображена в голубом форменном платье, установленном для воспитанниц второго возраста Воспитательного общества благородных девиц; Н. Давыдова представлена в форменном платье кофейного цвета, установленном для первого (младшего) возраста.
Эта маленькая смуглая грузинская княжна держит в руке белую розу — символ юности и добродетели. Девочки демонстрируют свои светские манеры, утверждая тем самым успехи института в воспитании юношества.
<<
Портрет Екатерины Николаевны Хрущовой и Екатерины Николаевны Хованской (1773г.)
 [455x599]
[455x599]Девочки разыгрывают сцену из комической оперы-пасторали Киампи «Капризы любви, или Нинетта при дворе». Смуглая 10-летняя Катя Хрущова (слева) играет мужскую роль влюбленного пастушка и одета в соответствующий костюм — в институте, где учились одни девочки, она прославилась этим амплуа. «Пастушок» треплет по подбородку свою партнершу жестом опытного волокиты.
Роли были распределены согласно характерам девочек. Катя Хованская задумчива и мечтательна, нежность ее натуры находит отклик в непревзойденном по живописному богатству, тончайше разработанном цвете ее наряда. Одетая пастушком КатяХрущева живей, энергичней и веселей своей подруги. Сквозь театральное жеманство жестов пробивается непосредственная радость молодости.
Портрет Екатерины Ивановны Нелидовой (1773г.).
 [366x599]
[366x599]Будущая фаворитка императора Павла изображена танцующей менуэт на фоне театральной декорации — пейзажного парка.
На 15-летней девушке надет сценический костюм (светло-коричневое, с сероватым отливом, отделанное розовыми лентами платье из упругого шелка, кокетливая соломенная шляпка, украшенная цветами и лентами), один из тех, в которых она выступала в придворных балетах. Полагают, что она изображена в костюме Сербины — очаровательной и остроумной плутовки из оперы Перголези «Служанка-госпожа». Поза Нелидовой — секундное мгновение между завершением одного танцевального па и переходу к следующему.
Портрет Александры Петровны Левшиной (1775г.).
 [391x599]
[391x599]Девушка изображена в танцевальной позе, она представлена в сценическом костюме, судя по всему, в том, в котором она с большим успехом сыграла роль Заиры в одноименной трагедии Вольтера, которую ставили в Смольном.
Портрет Екатерины Ивановны Молчановой (1776г.).
 [533x699]
[533x699]Екатерина Молчанова изображена в белом шелковом платье, установленном для воспитанниц старшего (четвертого) возраста Воспитательного общества благородных девиц. Справа на столе — антлия (вакуумный насос), использовавшийся как пособие при обучении смолянок. В левой руке она держит книгу. Этот атрибут позволяет воспринимать изображение и как Аллегорию Науки (или Декламации).
Кстати, Екатерина Молчанова одна из пяти лучших выпускниц Смольного института, удостоенных Золотой медали первой величины.
Портрет Глафиры Ивановны Алымовой (1776г.).
 [449x600]
[449x600]Одна из лучших арфисток своего времени изображена с любимым инструментом, который одновременно делает её и Аллегорией Музыки. Она также одета в форменное парадное платье из белого шелка, установленное для воспитанниц IV (старшего) возраста, которое выглядит особенно роскошно: это платье «полонез» с «хвостом» и «крыльями» на большом панье (каркасе из китового уса). Подол юбки украшен фалбалой, а лиф — пышными бантами. Нити крупного жемчуга обвивают длинные локоны, драгоценные камни вплетены в прическу. Эту роскошь связывают с тем, что к этому времени юная Глафира уже стала предметом всепожирающей страсти И.И. Бецкого, одного из основателей Смольного.
Готовые портреты были помещены в резиденции императрицы — Петергофe: их местопребыванием стала Куропаточная гостиная (или будуар), открывавшая анфиладу женских комнат (в настоящий момент там экспонируются копии). Согласно мнению большинства исследователей, полотна являлись частью общей дворцовой «сцены», и в центре находился портрет Левшиной, обрамленный двумя своеобразными триптихами: Ржевская с Давыдовой, Нелидова и Хрущева с Хованской — с одной стороны, и Борщова, Молчанова, Алымова — с другой.
Цикл поступил в Русский музей из Петергофского дворца после Февральской революции 1917 года. Еще только когда Русский музей формировался, комиссия неоднократно обращалась к царю с просьбой об их передаче, но всегда наталкивалась на решительный отказ. И вот, наконец, после долгих лет разрешение на получение портретов было дано.
В 2008 году картины отправлены на реставрацию. В сентябре 2010 года картины вновь выставлены в корпусе Бенуа Русского музея.

Серия сообщений "русские художники":
Часть 1 - Василий Максимов - бытописатель русской деревни
Часть 2 - Цветы России...
...
Часть 8 - Здравствуй, старая Прага, я в тебя окунулась...
Часть 9 - Русский волшебник из Америки
Часть 10 - "Смолянки" Д.Г. Левицкого
Часть 11 - Картина дня - "Портрет А.Н.Собольщиковой-Самариной"
Часть 12 - Картина дня - "Портрет девушки"
...
Часть 16 - Народный художник В.М. Максимов
Часть 17 - Картина дня - "Портрет молодой женщины
Часть 18 - "Кисть художника везде находит тропы..."
Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.
Дневник "Смолянки" Д.Г. Левицкого | Елена_Трегубова - Дневник Елена_Трегубова |
Лента друзей Елена_Трегубова
/ Полная версия
Добавить в друзья
Страницы:
раньше»