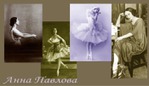На закате серебряного века
Здесь уже отмечалось 140 лет со дня рождения Б.В. Никольского, одного из лидеров Русского собрания. Ровно 105 лет назад на заседании Русского собрания в Киеве он прочёл специальный доклад, посвящённый Виктору Полякову. После доклада все присутствующие встали, чтобы почтить память этого рано ушедшего еврейского юноши. Кто же такой Виктор Лазаревич Поляков?
Ещё при императоре Александре Ш жил в центре Москвы очень богатый купец. Его пятеро сыновей стали помощниками отцу в купеческом деле. Но младший сын, Виктор, выбрал другое дело. Когда он родился, то одновременно у купца родилась и дочь, правда, от горничной. И купец поступил с её матерью, так же как Авраам с Агарью, так и не увидев никогда своей малышки. Было это ровно 130 лет назад. Малышка родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Мама назвала девочку Анной и дала свою фамилию, Павлова. Когда ей исполнилось 10 лет – мама отвела её в театральное училище, ибо в то время только с этого возраста принимали на обучение искусству балета. В 1899 году Анна Павлова окончила училище, и начало её карьеры благословил сам Мариус Петипа, относившийся к ученице с отеческой заботой.
Кем же стал её сводный брат? Его детство также прошло не в Москве, где проживала его семья, а в Санкт-Петербурге. Виктор учился в третьей петербургской гимназии, окончил ее в 1900-м году и поступил на юридический факультет Петербургского университета. Возможно, ещё в гимназии у него проявился интерес к поэзии. Третья гимназия являлась единственным средним учебным заведением Петербурга, где вплоть до её закрытия в 1918 году широко преподавался греческий язык, включая чтение произведений древнегреческих авторов: Гомера, Софокла, Еврипида. В разные годы в Третьей гимназии учились Д. С. Мережковский, В. Д. Набоков, П. Б. Струве, В. А. Оппель, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, С. Я. Маршак.
Здание бывшей Третьей гимназии на Гагаринской улице в Петербурге
Его дебют как поэта состоялся одновременно с выпуском в 1903 году университетского поэтического сборника, составленного его преподавателем Б.В. Никольским. Там же и тогда же начинал свой путь и А. Блок. В том же году участники сборника создали Кружок изящной словесности, собиравшийся на квартире приват-доцента Никольского.
В 1903 году Поляков, разочаровавшийся, кажется, в юридических дисциплинах, намеревался перейти на историко-филологический факультет, но по каким-то причинам этого не случилось.
В 1905 году Виктор Поляков перенёс тяжёлую болезнь, от последствий которой так и не оправился. Весной следующего, 1906 года, он скончался в Париже, вероятно, покончив жизнь самоубийством.
Что было причиной: болезнь или семейные проблемы, мы вряд ли узнаем. К тому времени его отец из крупнейшего российского банкира превратился в банкрота. Да и революционные события не могли оставить поэта равнодушным. Было ли это самоубийство? На этот вопрос тоже нет ответа – но как мы видели на примерах других талантливых деятелей культуры (того же Никольского), юный поэт мог стать жертвой либерального террора.
Б.В. Никольский составил сборник его стихов и выпустил в 1909 году. На этот сборник откликнулся А. Блок, вспоминая общение с автором – «печальным, строгим, насмешливым, умным и удивительно привлекательным».
В Кружке изящной словесности Никольского Виктор сблизился с поэтом и прозаиком Александром Алексеевичем Кондратьевым, которому мы обязаны большинством сохранившихся сведений о Викторе Лазаревиче Полякове. Чтобы представить круг общения молодого поэта, следует отметить, что в десятые годы Александр Кондратьев занял видное место в литературе. Его воспринимают как знатока мифологии, как тонкого стилиста. Гумилев в отзыве на один современный сборник стихов, вышедший с предисловием Кондратьева, писал, что к его исчерпывающей и стилистически утонченной статье «трудно что-нибудь прибавить». Брюсов по поводу рассказов "Улыбка Ашеры" говорил, что книга радует совершенством языка, возможно лучшего русского языка в современной прозе.
Мы не знаем, какое место в поэтической среде занял бы Виктор Поляков, проживи подольше. Но, судя по тем немногим произведениям, которые мы имеем, можно сказать, что молодой поэт придерживался заповеди «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».
Вот кусочек из его стихотворения «Века», созданного в разгар русско-японской войны:
Терпи, народ, - не бойся горькой чаши:
Вернётся всё, чем жизнь твоя светла,
И, усмирив врагов, мы пушки наши
Вновь перельём в колокола.
Наступил глубокий кризис во внешней и внутренней политике России: после подписания мира и революционных событий Николай II выпустил Манифест 17 октября 1905 года. Молодой А. Блок увлёкся революционными настроениями, с восторгом принимая всё, что разрушало монархический строй. Иным образом относился к этому Поляков: он считал этот акт самоизменой русской монархии, предательством ею своего исторического назначения и резко выразил своё мнение в стихотворном памфлете «На 17 октября».
Ты дал свободу: морем зла
И морем пламени свобода
Сожгла величие народа, - …
Надо отметить, что самые тревожные события 1905 года Поляков видел не из окна. Так 18 октября он находился на Казанской площади в Петербурге в точке противостояния двух демонстраций. Находясь под выстрелами тех, кто нёс красные флаги, он ушёл с площади последним. Он мечтал написать продолжение к труду Н.Н. Страхова «Борьба с западом», в котором анализируется духовный кризис Европы через признания её виднейших умов.
Молодой поэт собирался «предпринять поход» против бывшего популярным в кругах так называемой интеллигенции философа и поэта В.С. Соловьёва. В одном из писем он так его характеризует: «опасный и хитрый «интеллигент», придавший своему нигилизму мистическую окраску для того, чтобы соблазнить, кого следует».
Его дар в сочетании с его образованием позволяли ему не только ощущать, но и знать то, чего не знали другие. Поэтическая чуткость и искренность с одной стороны, и осведомлённость в делах и вопросах экономики, банковского дела, политики, с другой - не смогли ужиться в одном человеке.
В своём предсмертном письме Поляков пообещал другу, Алексею Кондратьеву, что будет просить за него Иегову, чтобы Тот пощадил его в дни, когда будет плясать, как виноградарь в точиле, по колено в крови неверных. Спасшийся от вакханалии «красного террора» за границей, А.А. Кондратьев печально иронизировал в 1931 году: «Мой покойный друг, как мне кажется, сдержал своё слово». Об этом известно из записок Г.П. Струве об Александре Кондратьеве, изданных в 1969 году в Неаполе.
Жизнь и творчество Виктора Полякова совпали с тем периодом в истории России, когда страну захлестнула волна терроризма, подготовившего почву для свержения Монархии. В результате революций 1917 года произошла не только смена власти, но был разрушен промышленный комплекс и прекращено производство не только промышленных товаров, но и сельскохозяйственных продуктов.
Ещё ранее, под ударами мирового финансового кризиса 1899-1900 г оказалась и «империя» Лазаря Соломоновича Полякова, отца поэта. Большинство его банков стали неплатежеспособными, над ними нависла зловещая угроза банкротства.
Отец умер также в Париже восемь лет спустя, куда 72-летний банкир прибыл в поисках новых средств и деловых контактов. В январе 1914 года в Москве состоялись одни из самых пышных и торжественных похорон за всю историю города. Гроб с телом покойного был доставлен из Парижа, где смерть застигла его в момент переговоров с финансовыми партнерами. Около 60 серебряных венков от предпринимательских и общественных организаций было возложено на могилу.
Это о нём ходила молва в среде российских евреев: в больших городах и крошечных местечках, благословляя детей перед свадьбой, родители словно молитву, повторяли устоявшуюся формулу: «Да сделает так Всевышний, чтобы ты был подобен Полякову».
Раввин Я. Мазе сказал над телом покойного: «История русского еврейства не забудет, что среди нас жил человек с высоким умом и благородным движением сердца, служивший примером своим братьям. Своей жизнью он доказал, что можно быть истинным гражданином земли русской и вместе с тем верным подданным Престола Всевышнего Израиля»…
Ещё пара стихотворений молодого поэта:
МАТЕРИ
Седой Хаос, кончаясь,
Им завещал бессмысленную силу
И родником бессмертья
Их стала плоть. Об этой древней тайне
Мать не расскажет детям:
Сын не поймет, а дочь сама узнает
От птицы перелетной,
От родников священной, темной рощи
И от всего, что дышит.
Стансы читателю
Что известности случайность?
Мне милее суеты
Целомудренная тайность
Откровений красоты.
Так: с мучительным недугом
Любославья незнаком,
Лишь поэтам был я другом,
Для немногих был певцом.
И спокойным, хоть безвестным,
Я вступаю ныне в свет:
Неизвестный неизвестным
Шлет поклон и шлет привет.
Ты враждою не погубишь,
Ты хвалой не будешь мил;
Если ты меня полюбишь –
Я давно тебя любил.
изображение с надгробия на одном из еврейских кладбищ
памятные литературные даты в моём дневнике: