Это цитата сообщения ninona Оригинальное сообщение
Художник Владимир Боровиковский (1757 — 1825). Мастер русского портрета
Это цитата сообщения Булгакова_Татьяна Оригинальное сообщение
ПОРТРЕТНАЯ ЖИВОПИСЬ XVI ВЕКА
Фламандский художник Ганс Эворт (1520-1574)

Генрих VIII
Это цитата сообщения Al_lexandra Оригинальное сообщение
Мальтийские пейзажи
Мальта — живописное островное государство, лежащее в Средиземном море, в 93 км от Сицилии и в 300 км от Туниса.
Оно занимает островной архипелаг, состоящих из трех обитаемых островов – Мальты, Гоцо и Камино, а также небольших островов и скальных образований. Самый большой из них, Мальта, величиной 246 квадратных километров, протяженность его территории с севера на юг равна 27 км.
Каждая эпоха оставила на Мальте свой отпечаток: удивительные достопримечательности — от древних мегалитов до средневековых храмов и крепостей — все еще хранят эхо минувших времен. Сюда нужно ехать, чтобы разгадывать тайны старинных улочек, улавливать интернациональные нотки в традиционных угощениях, наслаждаться отдыхом на каменистых и песчаных пляжах, спрятанных в укромных бухтах у берегов Средиземного моря, восстанавливать здоровье в современных центрах и просто любоваться окружающей красотой: неслучайно мальтийские пейзажи были выбраны декорациями для съемок культовой «Игры престолов».
1.

Это цитата сообщения OKSOMORON Оригинальное сообщение
ГОРОД БРЮГГЕ- "северная Венеция" в Бельгии.
Брюгге – небольшой бельгийский город, столица Западной Фландрии. Отлично сохранившиеся средневековые кварталы исторического центра, пронизанные каналами, позволили Брюгге с полным правом войти в ряды претендентов на звание «Северной Венеции».
Это цитата сообщения ulakisa Оригинальное сообщение
Mай уходит, торопясь.

Который май уходит, торопясь.
Почти бежит, не хочет оглянуться.
Надежды нет, что может он вернуться
и постоять, на сад облокотясь.

Это цитата сообщения Al_lexandra Оригинальное сообщение
Удивительные Канары
Канарские острова - удивительные и самые привлекательные места в мире.
Расположенные в 100 километрах на северо-западе от Африканского континента острова вулканического происхождения принадлежат Ипании. Близость на юге Африканскому континенту, и северо-восточные ветры, несущие влагу, создают здесь неповторимый мягкий климат. Уникальное место, с девственной природой, чистейшей водой изумительного изумрудного цвета, лучшими на Канарских островах безграничными песчаными пляжами с белым мелким песком.
Чистейший океанский воздух в сочетании с мягким климатом влияют на увеличение продолжительности жизни. Здесь средняя продолжительность жизни 80 лет .
1.

Это цитата сообщения babeta-liza Оригинальное сообщение
Особая любовь к кошкам в удивительных рисунках Пола Лунга
Очень трудно понять, что черно-белые картинки, которые вы видите ниже, на самом деле не фотографии, а рисунки художника Пола Лунга. Работы выполнены в реалистическом стиле. Иногда ему приходится записывать видео процесса рисования, потому что люди не верят, что его работы на самом деле сделаны с помощью карандаша и бумаги формата А4.

Наиболее частым предметом его работ являются его семья и друзья, и можно действительно сказать, что эти портреты полны особой любви и заботы. Однако самая удивительная особенная художественная черта его работ - изображения животных, в частности кошек. Я могу себе представить, что только тот, кто действительно восхищается этими чудесными созданиями, может создать такие незабываемо реалистичные и великолепные картины, где кошки играют ведущую роль.

Это цитата сообщения Dmitry_Shvarts Оригинальное сообщение
✨Камея и ее история
Камея – это символ утончённой красоты. Это произведение искусства, в котором тонкое изящество, отточенность форм, красота и совершенство.
Камеи – античные произведения искусств, которые олицетворяют идеал гармоничного и прекрасного, созданного человеком.

Чтобы рассказать историю камеи, дадим определения некоторым терминам, которые в наших описаниях могут понадобиться.
Глиптика – искусство резьбы по камню.
Геммы – это камеи и инталии.
Камеи - резные камни с изображением, исполненным в рельефе.
Инталии – камни или геммы с углубленным изображением. С давних-давних времён они служили печатями.
Это цитата сообщения ЕЖИЧКА Оригинальное сообщение
«Ты меня на рассвете разбудишь»


Встреча Андрея Вознесенского и Татьяны Лавровой положила начало их тайному роману.
Татьяна Лаврова — звезда фильма «Девять дней одного года», которая могла покорить любого мужчину одним только взглядом, к тому времени уже успела пережить два расставания после крушения отношений с Евгением Урбанским и Олегом Далем.
И кумир миллионов, поэт-шестидесятник Андрей Вознесенский, выступления которого собирали стадионы зрителей.
Вознесенский полностью завладел душой и сердцем актрисы. Их тайный роман, когда Лаврова ждала, что возлюбленный решится уйти из семьи, а он так и не осмелился поставить точку в отношениях с супругой — Зоей Богуславской, длился 7 лет и закончился болезненным расставанием.

Это цитата сообщения repman Оригинальное сообщение
Сегодня 27 мая, мы помним о...
Никколо́ Пагани́ни (итал. Niccolò Paganini; 27 октября 1782, Генуя — 27 мая 1840, Ницца) — итальянский скрипач-виртуоз и гитарист, композитор.
Одна из наиболее ярких личностей музыкальной истории XVIII—XIX веков.
Ранние годы
Никколо Паганини был третьим ребёнком в семье Антонио Паганини (1757—1817) и Терезы Боччардо, имевших шестерых детей. Его отец был одно время грузчиком, позднее имел в порту лавку, а при переписи населения Генуи, выполненной по приказу Наполеона, назван «держателем мандолин».
Когда мальчику исполнилось пять лет, отец, заметив способности сына, начал учить его музыке сначала на мандолине, а с шести лет — на скрипке. По воспоминаниям самого музыканта, отец строго наказывал его, если он не проявлял должного прилежания, и это впоследствии сказалось на его и без того слабом здоровье. Однако Никколо сам всё более увлекался инструментом и усердно упражнялся, надеясь найти ещё неизвестные сочетания звуков, которые удивили бы слушателей.
Мальчиком он написал несколько произведений (не сохранились) для скрипки, которые были трудны, однако сам он их успешно исполнял. Вскоре отец Никколо отправил сына на обучение скрипачу Джованни Черветто (Giovanni Cervetto). Сам Паганини никогда не упоминал, что учился у Черветто, однако его биографы, например Фетис, Джервазони, упоминают этот факт. С 1793 года Никколо стал регулярно играть на богослужениях в генуэзских церквях. В то время в Генуе и Лигурии сложилась традиция исполнять в церквях не только духовную, но и светскую музыку. Однажды его услышал композитор Франческо Ньекко, который взялся консультировать юного музыканта. В том же году он прошёл обучение у Джакомо Коста, пригласившего Никколо играть в соборе Сан Лоренцо, капельмейстером которого он был. Неизвестно, посещал ли Паганини школу, возможно читать и писать он научился позднее. В его письмах, написанных в зрелом возрасте, встречаются орфографические ошибки, однако он обладал некоторыми познаниями в литературе, истории, мифологии.
Первый публичный концерт (или, как тогда говорили, академию) Никколо дал 31 июля 1795 года в генуэзском театре Сант-Агостино. Сборы от него предназначались на поездку Паганини в Парму для обучения у знаменитого скрипача и преподавателя Алессандро Ролла. В концерт было включено сочинение Никколо «Вариации на тему Карманьолы», вещь, которая не могла не понравиться генуэзской публике, в то время настроенной про-французски. В этом же году меценат маркиз Джан Карло Ди Негро отвёз Никколо и его отца во Флоренцию. Здесь мальчик исполнил свои «Вариации…» скрипачу Сальваторе Тинти, который, по словам первого биографа музыканта Конестабиле, был поражён невероятным мастерством юного музыканта.
Это цитата сообщения Нина_Петрович Оригинальное сообщение
Песчаная река в Ираке. Одно из чудес света и величайшая тайна Бога. Движение песка без воды.
Прислали мне на вайбер этот удивительный ролик.
Сначала посмотрите его, и только потом нажмите "ДАЛЕЕ..."
Это цитата сообщения Galyshenka Оригинальное сообщение
Вознесение

Пьетро Перуджино - Вознесение Христа
Это цитата сообщения lomovolga Оригинальное сообщение
Мадонна и святые в живописи итальянских мастеров Ренессанса (Kress collection) \63\

Bartolomeo Vivarini, Venetian


Franciabigio (Francesco di Cristofano), Italian, 1484-1525


Il Romanino (Girolamo di Romano)

Это цитата сообщения К-Валентина Оригинальное сообщение
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь.



Это цитата сообщения Ramata Оригинальное сообщение
Они такие все разные, эти - Тамарины!

Черноголовый львиный тамарин.
Свое название примат получил благодаря острову, на котором жил рыбак, впервые описавший обезьяну этого вида.
Западной науке черноголовый львиный тамарин известен с 1990 г., когда был обнаружен на острове Супераки (Бразилия).
Тропические леса в юго-восточной части Бразилии - остров Супераки и на соседней территории материка в штате Парана и Сао Паоло, занимая территорию 17,30 га атлантического побережья Бразилии.
Вес черноголового львиного тамарина 500-600 грамм, размер их тела составляет около 30 см., а длина хвоста достигает 40 см.
Это цитата сообщения lora-46 Оригинальное сообщение
Шансон -французская эстрадная песня в стиле кабаре
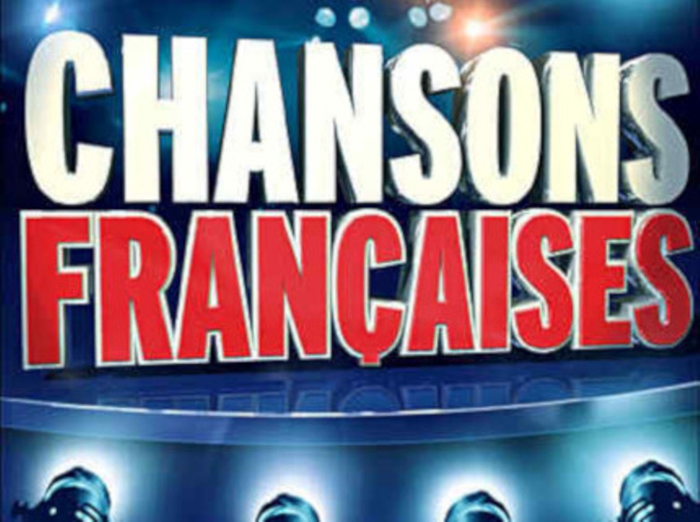
Родина шансона — Франция.


Это цитата сообщения Майя_Пешкова Оригинальное сообщение
Королевский дворец в Неаполе

| Королевский дворец в Неаполе — главная резиденция монархов Королевства Обеих Сицилий из династии Бурбонов.Помимо своей романтичности и сладкой ноты мечты, Неаполь покоряет своей архитектурой. Одним из главных сооружений города является королевский дворец «Палаццо Реале». Он был построен в XVII веке архитектором Луиджи Ванвинтелли, который служил династии Бурбонов. В 1837 году, во время большого пожара, дворец пострадал и подвергся большой реконструкции, после чего был уже представлен в неоклассическом стиле. |
Это цитата сообщения Майя_Пешкова Оригинальное сообщение
Королевский дворец в Неаполе

| Королевский дворец в Неаполе — главная резиденция монархов Королевства Обеих Сицилий из династии Бурбонов.Помимо своей романтичности и сладкой ноты мечты, Неаполь покоряет своей архитектурой. Одним из главных сооружений города является королевский дворец «Палаццо Реале». Он был построен в XVII веке архитектором Луиджи Ванвинтелли, который служил династии Бурбонов. В 1837 году, во время большого пожара, дворец пострадал и подвергся большой реконструкции, после чего был уже представлен в неоклассическом стиле. |
Это цитата сообщения Нина-Ник Оригинальное сообщение
Великая и ранимая Фаина Раневская
В ее судьбе, творческой биографии так и не случилось главной роли, а в личной жизни - большой взаимной любви. «За талант нужно платить», - любила повторять Фаина Раневская. Сама она заплатила за него своим одиночеством...
Будущая легендарность - Фаина Раневская (настоящее имя Фанни Гиршевна Фельдман) была рождена в богатой еврейской семье 27 августа 1896 года.
 Ее родителей, Гирша Хаимовича и Милку Рафаиловну Фельдман, в Таганроге знали и уважали. На их дом на Николаевской улице показывали пальцем: «Вот так хоромы!» Через два года после рождения Фанечки отец выкупил особняк у купца и заново его отстроил, благо средства позволяли. Кроме фабрики красок, мельницы и магазина стройматериалов, в собственности Фельдманов числился пароход «Святой Николай».
Ее родителей, Гирша Хаимовича и Милку Рафаиловну Фельдман, в Таганроге знали и уважали. На их дом на Николаевской улице показывали пальцем: «Вот так хоромы!» Через два года после рождения Фанечки отец выкупил особняк у купца и заново его отстроил, благо средства позволяли. Кроме фабрики красок, мельницы и магазина стройматериалов, в собственности Фельдманов числился пароход «Святой Николай».
Отец был серьезным и очень занятым человеком, мать - отличной хозяйкой. Вот только на детей времени у нее почти не было: четверо сыновей и обе дочери были на попечении гувернанток. Впечатлительной с детства Фанечке не хватало материнской ласки. Страдала она и оттого, что считалась в семье гадким утенком: девочка родилась на редкость некрасивой. Особенно это бросалось в глаза на фоне сестры - красавицы Беллы. Позже, играя в спектакле по пьесе Ибсена, над фразой «Мама, дай мне солнца!» Фаина Раневская неожиданно даже для себя разрыдается. Это был девиз ее сытого, но лишенного любви детства.
Фаина получила классическое для девушки дореволюционной России домашнее образование. Дополнительно занималась в частной театральной студии. Отец воспринял ее увлечение как блажь: таланта актрисы в младшей дочери он не видел.

Робкая и застенчивая, девочка к тому же часто заикалась. Однако любовь к театральным подмосткам в биографии Раневской заставила 19-летнюю Фаню впервые в жизни проявить твердость и даже непокорность. Словно чеховская героиня, она бредила столицей, театральным вузом, жизнью московской богемы. Отец пришел от ее идеи в ярость, и тогда на собственные средства Фаня купила билет на поезд - в один конец. На вокзале тайком от отца мать успела сунуть дочери несколько смятых купюр.
 Увы, столица в биографии Раневской не ждала Фаину с распростертыми объятиями, а приговор комиссии в театральном вузе был ужасен: «Некрасивая и неспособная». Но отходных путей не было, и девушка устроилась в Малаховский дачный театр. Сняла комнатку на Большой Никитской, куда частенько заглядывали ее новые знакомые: Марина Цветаева, Анна Ахматова, Макс Волошин, Осип Мандельштам, Владимир Маяковский.
Увы, столица в биографии Раневской не ждала Фаину с распростертыми объятиями, а приговор комиссии в театральном вузе был ужасен: «Некрасивая и неспособная». Но отходных путей не было, и девушка устроилась в Малаховский дачный театр. Сняла комнатку на Большой Никитской, куда частенько заглядывали ее новые знакомые: Марина Цветаева, Анна Ахматова, Макс Волошин, Осип Мандельштам, Владимир Маяковский.
Фаня поступила в частную театральную студию и параллельно играла в массовке, колеся с театром по захолустьям. Но деньги быстро закончились, и из студии пришлось уйти. Актриса, занесенная ныне в десятку лучших в мире, так и не получила театрального образования...
Мать тайком от отца посылала ей деньги. А потом грянула революция, и вся семья Фельдман на собственном пароходе «Святой Николай» покинула Россию. Навсегда. Больше своих близких Фаина не видела никогда.








