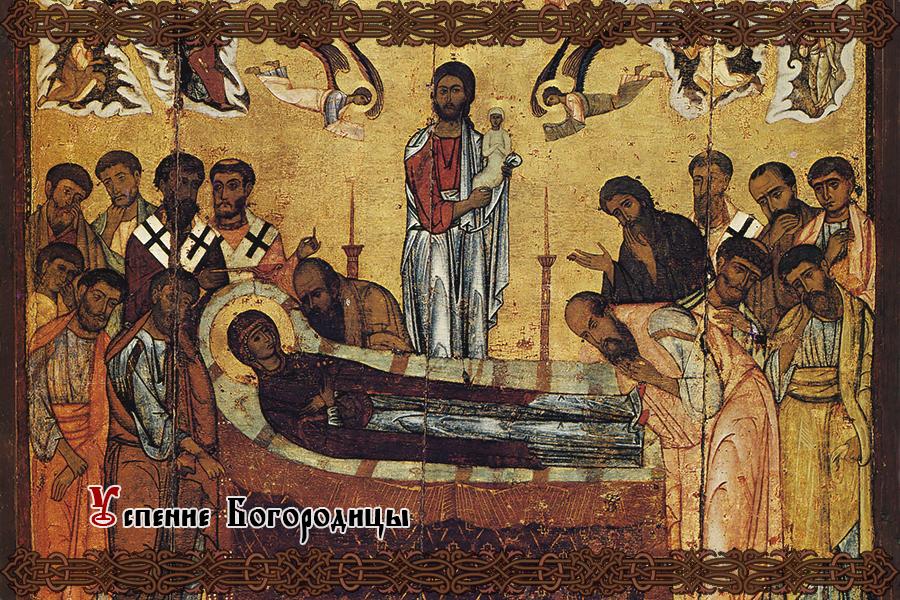|
Божия Мать в утешение благословила всех их,
|
Автор стихов: Людмила Громова
|
|
|
Любить, не ожидая ничего взамен, зная, что великий Игорь Стравинский никогда не оставит жену, и тем не менее все же оставаться рядом...
— Это нужно прекратить, так больше не может продолжаться! 27 мая 1922 года. Париж. Маленькое кафе в закоулках Монмартра. Столик в укромном уголке. Игорь Стравинский держит руку Веры в своих ладонях, она молча кивает — говорить невозможно, все силы уходят на то, чтобы удержать слезы. Он во всем прав, конечно, так больше нельзя.
— Послушай, твой… Сергей написал мне. Это страшное письмо. Он не угрожает, не грубит, но… Ты не представляешь, какой ненавистью пропитано каждое слово. Что это, Игорь готов заплакать? В его глазах слезы?
— Ты ведь и сама знаешь, это неизбежно. Ты должна быть с ним. Помнишь, ты говорила, а я спорил, глупец… Что счастье нельзя построить на несчастье другого. Я ничего не могу тебе предложить, ты ведь знаешь! |

|
В Копенгагене в Музее вооруженных сил есть необычная коллекция — черкеска, кинжал, шашка, револьвер, столовый набор с гербом датского королевского двора. Все эти вещи принадлежали одному человеку — Тимофею Ящику, казаку Собственного Его Императорского Величества конвоя. Тимофей Ксенофонтович родился и вырос в казачьей семье на Кубани — в станице Новоминской. Семья была большой, но дети ни в чем не нуждались. С ранних лет Тимофею привили нехитрую, но непреложную истину: «Мой конь подо мной, мой Бог надо мной». Казаки никогда не использовали коней для пахоты. Конь — это боевой товарищ и верный друг. А главным примером верности и послушания Господу для маленького Тимофея являлись его родители. Семья была очень религиозной. Как только Тимофей начал говорить, отец стал учить его молиться, креститься, опускаться на колени и делать поклоны. Женился Тимофей Ксенофонтович рано — ему не было еще и восемнадцати лет. А в 1900 году его призвали на военную службу. Дома он оставил жену Марфу и двух дочерей. Мысль о важности служения царю прививалась казакам буквально с первых дней их жизни. И любить царя нужно было больше, чем кого-либо на этом свете. Тимофей Ящик служил в 1-м Ейском полку неподалеку от Тифлиса. Его, красавца и меткого стрелка, вскоре перевели в конвой командующего войсками Кавказского военного округа князя Григория Голицына. Каждый год князь представлял царю доклад о положении дел на Кавказе. Отправившись в Петербург вместе с Голицыным, Ящик впервые увидел императора Николая II. Тимофей и не догадывался, что судьбе будет угодно навсегда связать его с императорской семьей.
|

|
К 48 годам у него было все, о чем можно мечтать: уютный загородный дом в Медане, солидный счет в банке, роскошная парижская квартира на улице Булонь и любящая, преданная жена Александрина Габриэль. Время от времени у Эмиля Золя случались приступы черной тоски и почему-то все чаще он запирался в кабинете и страдал от беспричинного отчаяния.
Александрину Меле - цветочницу с площади Клиши, в свободное время подрабатывающую натурщицей, Золя встретил много лет назад.
Брюнетка произвела на Золя большое впечатление. Александрину нельзя было назвать красавицей, но она обладала статной фигурой, выразительными глазами, доброй мягкой улыбкой, а главное - крепко стояла на ногах и отличалась здравомыслящими суждениями. 
Дом писателя в Медане, юго-западном пригороде Парижа В 1870 году Эмиль и Александрина сыграли скромную свадьбу. Детей в браке не было. Золя много работал и дела его шли в гору.
Эмиль Золя
|
|
Петр Кончаловский познакомился с дочерью художника, когда пришел к Василию Сурикову на урок. Кончаловскому было тогда всего шестнадцать лет, Ольга была младше его на два года. Петра и Ольгу не представили друг другу, по-настоящему они познакомились только через десять лет, а уже через три недели было принято решение о женитьбе. К тому времени Петр Кончаловский был уже состоявшимся художником, побывавшим в творческих поездках за рубежом. |
 [показать]
[показать]|
«Утро в сосновом лесу» — самое знаменитое произведение Шишкина. Современники отмечали идиллическое содержание этого пейзажа. «Утренний туман тихо вздымается, прогоняемый дневным теплом. Лесные обитатели проснулись, в том числе и семья медведей, копошащихся возле старых смолистых сосен. Медвежата эквилибрируют на стволах и наслаждаются жизнью в свое удовольствие», — писал критик Петр Гнедич.
|

|
13 апреля 1953 года в галерее Лолы Альварес в Мехико открылась необычная выставка. Необычным было все: яркие, сочные картины на стенах, лица на картинах, освещенные неким знанием, кровать под балдахином, стоящая среди картин. Публика недоумевала, пока с улицы не донеслись сирены «Скорой помощи» и рев мотоциклетных моторов. Сквозь расступившуюся толпу к кровати подвели женщину – хрупкую, невысокую, в ярчайших юбках и украшениях, с лицом, искаженным болью – и озаренным счастьем. Фриду Кало. Она лежала на приготовленной для нее постели, не в силах встать после перенесенной накануне очередной операции и не в силах пропустить одно из главных событий в ее жизни – ретроспективную выставку своих работ. Сквозь привычную боль она улыбалась окружавшим ее людям – а с десятков автопортретов на нее смотрели ее собственные суровые лица без единой улыбки. Через полчаса Фриду увезли обратно в больницу… Публика, восхищенная, раздавленная, шокированная и влюбленная, осталась вглядываться в картины Фриды Кало, пытаясь разобраться – как этой тяжелобольной женщине удалось так ярко и необычно признаваться в любви к жизни…
Пройдя через страдания, девочка выросла в стойкую и мужественную девушку, жадно радующуюся жизни, веселую и общительную. Несмотря на физический недостаток, Фрида была очень красивой, ее огромные глаза под густыми сросшимися бровями и роскошные черные волосы, ее обаяние и дружелюбие привлекали к ней мужчин, как огонь – мотыльков. Но Фрида не была кокеткой. Когда ее сверстницы уже одевались, как взрослые дамы, в элегантные платья, Фрида ходила в строгой юбке и простой белой блузе. А в 1922 году Фрида выдержала серьезные экзамены и поступила в Национальную подготовительную школу, чтобы впоследствии заниматься медициной – в то время это была очень необычная карьера для женщины. |

|
|

|
|
Не надо быть пророком, чтобы предсказать: 14 августа с самого утра соцсети наводнят открыточки с медом, пчелками и нехитрым текстом "Поздравляю Вас. 14 августа - Медовый спас!". Причем, слово "спас" будет написано со строчной буквы. И так обидно становится, что мы забыли:14 августа - праздник в честь победы русского воинства над врагом! И мед тут дело десятое. Но обо всем по порядку. |

|
Откуда взялось выражение "Кто не рискует, тот не пьет шампанское"
Франсуа Клико был одним из виноделов провинции Шампань, не самым известным и богатым, но с хорошей репутацией. В конце XVIII века он женился на дочери барона Николя Понсардена — Николь. И именно эта женщина сделала его фамилию всемирно известной. После смерти мужа, в 1805 году, она взяла дело в свои руки и расширила семейный бизнес. Кроме того, именно вдова Клико нашла способ избавляться от мутного осадка, и ее шампанское стало прозрачным. По этой причине отбоя от желающих прикупить именно ее вина не было.
Есть исторический факт, что в те годы бутылки с шампанским имели тенденцию взрываться в самый неподходящий момент и могли поранить осколками того, кто спускался в винный погреб. Николь придумала защитный костюм и перчатки, которые позволяли решить эту проблему, но сама в погреба спускалась редко. В связи с несовершенством бутылок и опасностью лишиться глаза при неожиданном «салюте», как говорят, и родилась крылатая фраза.
В 1814 году русская армия взяла Париж штурмом. Гусары распробовали шампанское вдовы Клико и, когда вернулись в Москву и Петербург, стали выписывать модное вино из-за границы. Это обходилось в копеечку и было не каждому дворянину по карману. Одна бутылка стоила 10 рублей, а на каждый званый обед требовалось несколько ящиков. Известно, что за один только 1825 год в Российскую империю завезли больше 250 тысяч бутылок шампанского от Клико. А с ним в обиход вошла и поговорка про риск. Ведь гусары любили рисковать — и на поле боя, и в любовных приключениях, и за карточным столом. Пришлось по нраву вино и молодым купцам. Провернув удачную сделку на бирже, они непременно отмечали успех шампанским. Купцы постарше не одобряли это «ребячество», предпочитая наживать капитал без риска, и пили чай с баранками.
Во второй половине XIX века это выражение накрепко вошло в лексикон завсегдатаев московских игорных домов. Причем в большинстве из этих сомнительных притонов шампанского отродясь не пробовали, здесь народ был попроще, чем в светских салонах, клубах и офицерских собраниях. Здесь мелкие чиновники, торговцы мелочью и мещане проигрывали последние гроши карточным шулерам. Именно в этой среде родилось продолжение популярной поговорки. Стоило только зарвавшемуся игроку заявить: «Кто не рискует, тот не пьет шампанского», как тут же более мудрые и трезвые добавляли: «А кто рискует, тот без штанов домой уходит». Именно в таком, полном варианте эта фраза вошла в «Словарь русского арго» В. С. Елистратова, содержащий более 3000 фразеологизмов и идиоматических выражений. Победителей гонки «Формула-1» принято поливать шампанским — прямо из бутылок. Считается, что и эта традиция дала новую жизнь крылатой фразе. Ведь пилоты гоночных болидов часто рискуют на трассе, обгоняя соперников на повороте. Традиция вручения победителю гонки бутылочки игристого началась в 1951 году, когда Хуану Мануэлю Фанхио спонсоры презентовали трехлитровую бутылку шампанского «Моэт и |
|
"Стой под дождем, пусть пронизывают тебя его
|

|
После смерти Лили Брик ее знаменитое платье от Сен-Лорана стало сценическим костюмом Аллы Демидовой. Из воспоминаний Аллы Сергеевны: «В 1989 году я решила прочитать со сцены «Реквием» Анны Ахматовой. С Володей Спиваковым мы вместе размечали «Реквием» - какие куски нужно перебивать музыкой. Решили выбрать Шостаковича. А я все думала, в чем же мне читать? В вечернем платье нельзя - «Реквием» читается первый раз, это о 1937- м годе, - нехорошо. С другой стороны, выйти по-тагански - свитер, юбка - просто как женщина из очереди «под Крестами» - но за моей спиной сидят музыканты в смокингах и во фраках, на их фоне это будет странно. Я решила, что надо найти что-то среднее, и вспомнила, что в свое время Ив Сен-Лоран подарил Лиле Брик платье: муаровую юбку и маленький бархатный сюртучок. Муар всегда выглядит со сцены мятым, хотя при ближайшем рассмотрении можно разглядеть, что это очень красивое платье. Лили Юрьевны уже не было в живых, поэтому я попросила его у Васи Катаняна. И до сих пор читаю в нем «Реквием». Первый раз читаю… Огромный зал филармонии. Народу! В проходах стоят. Мне сказали, что в партере сидит Лев Николаевич Гумилев с женой. Я волнуюсь безумно, тем более что там строчки: «…и сына страшные глаза - окаменелое страданье...», ведь она стала писать «Реквием» после того, как арестовали сначала сына, а потом мужа - Пунина. После концерта стали к сцене подходить люди с цветами. И вдруг я вижу: продирается какая-то старушка с кружевным стареньким жабо, с камеей. С увядшими полевыми цвета-ми (а я, надо сказать, очень люблю полевые цветы). И она, раздирая эти цветы на две половины, одну дала мне, а вторую положила на авансцену и сказала: « А это - Ане». По этому жесту я поняла, что она была с ней знакома.
Идут люди с поздравлениями и вдруг - Лев Николаевич Гумилев - абсолютная Ахматова, он к старости очень стал на нее похож. Я, чтобы предвосхитить какие-то его слова, говорю - Стоп, Алла, я сам дрожал как заячий хвост, когда шел на этот концерт, хотя забыл это чувство со времен оных... Потому что я терпеть не могу, когда актеры читают стихи, тем более Ахматову, тем более 'Реквием', но... Вы были хорошо одеты... Мне это очень понравилось. Он еще что-то говорил, а в конце сказал: «Мама была бы довольна». Я вздрогнула ».
|
|
|
Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых на Руси. Его также называют Николаем Угодником, Николаем Мирликийским и Николой (Миколой) Можайским. Еще при жизни он защищал несправедливо осужденных, спасая их от смерти, мирил врагов и распространял добро на земле. Считается, что святой покровительствует морякам, путешественникам, купцам и детям, особенно сиротам. |

|
Автор: Любовь Лерокс
|
Он шел по аллеям в глубину Павловского парка мимо прудов и ухоженных газонов. Иоганн Штраус пытался себя уверить, что совершенно случайно вышел к той самой скамейке. На скамейке, как когда-то в другой жизни, сидела незнакомка. Молодой, но уже необычайно популярный в Вене композитор Иоганн Штраус впервые приехал в Россию в мае 1856 года. По контракту, подписанному им на довольно выгодных условиях с Дирекцией Царско-Сельской железной дороги, 30-летнему Штраусу предстояло в течение летнего сезона дирижировать своим оркестром шесть раз в неделю в павловском музыкальном павильоне.
В те времена Павловск, расположенный в тридцати километрах от Петербурга, был не только излюбленным дачным местом, в котором предпочитали проводить время люди из высшего общества, он был по сути летней столицей России. В России Штраус провел 10 лет с перерывами. |