Она переводила «Дон Жуана» Байрона по памяти во внутренней тюрьме Большого дома в Ленинграде
Когда аплодисменты стихли, женский голос крикнул: «Автора!»
В другом конце зала раздался смех.
Он меня обидел, нетрудно было догадаться, почему засмеялись: шел «Дон Жуан» Байрона.
Публика, однако, поняла смысл возгласа, и другие закричали: «Автора!» Н
иколай Павлович Акимов вышел на сцену со своими актерами, еще раз пожал руку Воропаеву, который играл заглавного героя, и подступил к самому краю подмостков.
Ему навстречу встала женщина в длинном черном платье, похожем на монашеское одеяние, — она сидела в первом ряду и теперь, повинуясь жесту Акимова, поднялась на сцену и стала рядом с ним; сутулая, безнадежно усталая, она смущенно глядела куда-то в сторону.
Аплодисменты усилились, несколько зрителей встали, и вслед за ними поднялся весь партер — хлопали стоя.
Вдруг, мгновенно, воцарилась тишина: зал увидел, как женщина в черном, покачнувшись, стала опускаться — если бы Акимов ее не поддержал, она бы упала. Ее унесли — это был инфаркт.
Догадывалась ли публика, собравшаяся на генеральную репетицию акимовского спектакля «Дон Жуан», о происхождении пьесы? Был ли возглас «Автора!» всего лишь непосредственной эмоциональной репликой или женщина, первой выкрикнувшая это многозначительное слово, знала историю, которую я собираюсь рассказать?
Татьяна Григорьевна Гнедич, праправнучатая племянница переводчика «Илиа-ды», училась в начале тридцатых годов в аспирантуре филологического факультета Ленинградского университета; занималась она английской литературой XVII века и была ею настолько увлечена, что ничего не замечала вокруг.
А в это время происходили чистки, из университета прогоняли «врагов»; вчера формалистов, сегодня вульгарных социологов, и всегда — дворян, буржуазных интеллигентов, уклонистов и воображаемых троцкистов.
Татьяна Гнедич с головой уходила в творчество елизаветинских поэтов, ни о чем ином знать не желая.
Ее, однако, вернули к реальности, на каком-то собрании обвинив в том, что она скрывает свое дворянское происхождение. На собрании ее, конечно, не было — узнав о нем, она громко выразила недоумение: могла ли она скрывать свое дворянство? Ведь ее фамилия Гнедич; с допушкинских времен известно, что Гнедичи — дворяне старинного рода.
Тогда ее исключили из университета за то, что она «кичится дворянским происхождением». Действительность была абсурдна и не скрывала этого.
Единственным оружием в руках ее жертв — в сущности, беспомощных — был именно этот абсурд; он мог погубить, но мог, если повезет, спасти.
Татьяна Гнедич где-то сумела доказать, что эти два обвинения взаимоисключающие — она не скрывала и не кичилась; ее восстановили.
Она преподавала, переводила английских поэтов, писала стихи акмеистического толка, даже стала переводить русских поэтов на английский.
Мы жили с нею в одном доме — это был знаменитый в Петербурге, потом Петрограде и Ленинграде дом


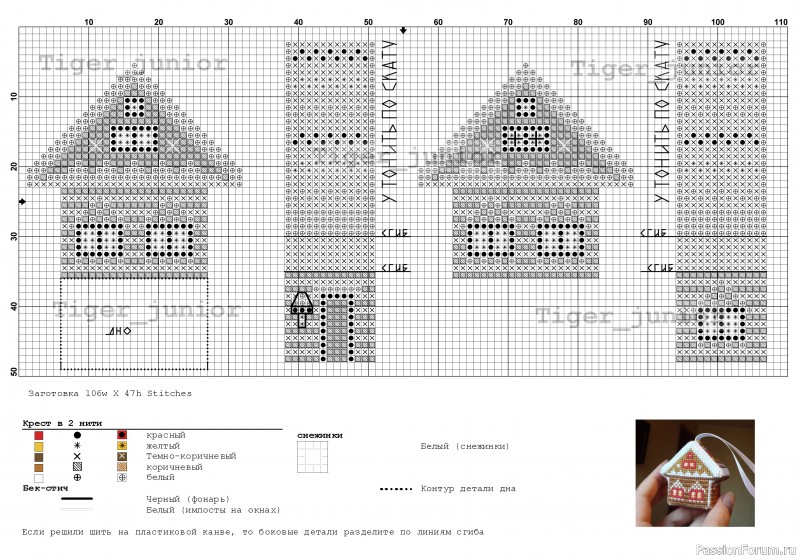









 С 26-го июля по 12-е августа нашу планету накроет огромная Волна Света из Центра Галактики, тем самым знаменуя начало нового планетарного года.
Пик этой волны выпадает на 8-е августа, портал Врат Льва закрывается 12 августа.
Нас ждет мощное вливание энергии на всех уровнях бытия, когда у каждого из вас есть шанс перейти на новый виток эволюции вашего сознания и уровня жизни.
И сегодня я хочу поделиться тем, как вы можете подготовиться к новому планетарному году.
Что такое Врата Льва
«Врата» или «Звездные Врата» — это период около двух недель, в течение которого открывается вихрь, и Земля получает волну интенсивного Света из Галактического Центра.
Эта «волна» содержит новые Световые Коды для Эволюции Земли на следующий год/цикл, и также известна как Планетарный Новый Год.
Эта поступающая Волна Света эффективно «Рекалибрует» Планетарные Частоты для Высших Уровней Сознания.
Новые Коды Света и Шаблоны Эволюции опускаются на Землю и активируют сети и Тела Света всех, кто восприимчив к повышению своего развития до более высокой спирали Сознания.
С 26-го июля по 12-е августа нашу планету накроет огромная Волна Света из Центра Галактики, тем самым знаменуя начало нового планетарного года.
Пик этой волны выпадает на 8-е августа, портал Врат Льва закрывается 12 августа.
Нас ждет мощное вливание энергии на всех уровнях бытия, когда у каждого из вас есть шанс перейти на новый виток эволюции вашего сознания и уровня жизни.
И сегодня я хочу поделиться тем, как вы можете подготовиться к новому планетарному году.
Что такое Врата Льва
«Врата» или «Звездные Врата» — это период около двух недель, в течение которого открывается вихрь, и Земля получает волну интенсивного Света из Галактического Центра.
Эта «волна» содержит новые Световые Коды для Эволюции Земли на следующий год/цикл, и также известна как Планетарный Новый Год.
Эта поступающая Волна Света эффективно «Рекалибрует» Планетарные Частоты для Высших Уровней Сознания.
Новые Коды Света и Шаблоны Эволюции опускаются на Землю и активируют сети и Тела Света всех, кто восприимчив к повышению своего развития до более высокой спирали Сознания.
 Два Солнца в небе
В этот период самая яркая звезда Сириус вновь появляется на небосклоне после 70 дней своей “невидимости”.
В августе этот момент совпадает с восходом Солнца.
Поэтому в предрассветные часы вы можете наблюдать в небе 2 солнца: Золотое (Солнце Земли) и Голубое (Сириус).
Золотое Солнце транслирует энергию Божественной Любви и Сострадания.
Алмазные Коды Света, несущие паттерны и шаблоны для следующей спирали времени, передаются из Галактического Центра и усиливаются Сириусом, интегрируясь в Планетарные Циклы Времени Земли.
Будет полезно встать на рассвете и глядя на восходящий Сириус сонастроиться с Кодами Света, которые он транслирует…
Два Солнца в небе
В этот период самая яркая звезда Сириус вновь появляется на небосклоне после 70 дней своей “невидимости”.
В августе этот момент совпадает с восходом Солнца.
Поэтому в предрассветные часы вы можете наблюдать в небе 2 солнца: Золотое (Солнце Земли) и Голубое (Сириус).
Золотое Солнце транслирует энергию Божественной Любви и Сострадания.
Алмазные Коды Света, несущие паттерны и шаблоны для следующей спирали времени, передаются из Галактического Центра и усиливаются Сириусом, интегрируясь в Планетарные Циклы Времени Земли.
Будет полезно встать на рассвете и глядя на восходящий Сириус сонастроиться с Кодами Света, которые он транслирует…




