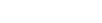Помнишь скрип шаткой стремянки, ведущей на
старый чердак, где под утро темно и стыло?
Пахнет лавандой, соломой и нафталином.
И первый луч, источаемый из окна
/тонкий и ломкий - натянутая струна/ ,
стелется к полу и вьётся волшебной пылью.
Ткач доплетает вчерашнюю паутину.
Город за стеклами жмурится ото сна.
Так мы стояли - безмолвны и недвижимы,
словно, у нас эта осень всего одна.
Помнишь дорогу из красного кирпича,
молнией раненый кедр ещё прошлым летом?
Я ловко прячу в широкий рукав конфету
и /алле-оп!/ вынимаю из-за плеча.
Ты этот фокус узнал, но смеёшься: "Ведьма,
кара тебе - острие моего меча."
....Кедр превращался в труху. Мы взрослели. Время
злее любого безликого палача.
Время научит готовить, стирать, лечить
Время заставит без слёз хоронить любимых.
Здесь невесомее боль, холоднее зИмы.
Ведьме – протапливать печь и глотать ключи,
Джон Фаулз "Коллекционер"
"А Я говорю вам: любите врагов ваших..."
(Матф.5:44-48).
Мне говорили, что ненависть не имеет тела, не имеет формы, религии или расы.
Ненависть четырёхстенна, на самом деле. И шестигранна.
Часто приходит в образе конвоира и солдафона, часто приносит наручники и удавку. Ненависть накрывает меня плафоном и наживляет, как бабочку, на булавку.
Здесь тишину разрывает на тысячу децибелов, вакуум клети отчаянно осязаем. Кажется, я в нём оглохла и отупела. Кажется, я о себе ничего не знаю. Кажется, я о себе ничего не помню. И если бы прошлому дали имя, оно было б копией этих комнат.
Стало бы ими.
А затем были бабочки - чёрные, словно вдовы: хрупкие крылья на бархатных антресолях.
Я напишу про Вас книгу, Вы бросьте мне только слово.
Я Вам наплачу море, Вы дайте мне только соли.
Я нарисую Вам Счастье, но что для Вас значит счастье? Старые стены и лица белее хрома?
Вы мне приносите воду, бинты и пластырь.
Я умерла уже в пропасти у Джерома*.
_______
* имеется в виду Сэлинджер
Голод
приманивает яблоками и кинзой.
Восковый бок надрезан,
кипит соком,
пахнет сидром,
одура
чивает,
одурма
нивает.
Рот Гингемы рвётся по швам
и растягивается
в медовом оскале:
- Подойди ближе, детонька…
Небось , яблочка захотел?
Голос шипит и свистит
кипящим чайником,
течёт змеиным ядом
прямиком в ухо.
Время мыть камни. Время считать добро. Время писать историю от руки. Вот я рисую дом и напротив - фронт, город с табличкой огненной "помоги". Город-герой, и чужак из него течёт, словно из горла хрип, на пустой вокзал. Вот я сжимаю ненависть за плечо, и у неё сегодня твои глаза.
Время пить ярость и сплёвывать горький ком. Время не слышать, не видеть, не говорить. Вот я рисую небо с таким трудом, не посмотрев, что болит у него внутри. Город-оскал, если встанешь к нему спиной, то не зевай и пули ребром лови. Где здесь аптека? Господи-Боже-мой, ты о какой всё время твердишь любви?
Время спать порознь. Время глазеть на птиц. Время вытаскивать раненых из гнезда. Город ссыпает лишнее из горсти, город рисует мёртвые города. Город штампует лица детей-сирот, чёрные окна и страшные голоса.
- Дядя Палач, если завтра мой пёс умрёт, кто ещё станет от смерти меня спасать?
- Здесь кто-то есть? – Да, я.. – Я – это кто?
- Я – твоё Сердце, что едва стучит,
Я сломано – живое решето.
Тебе по нраву по-собачьи выть,
Ты одинок, бездомен и разбит.
- Но почему? – Ты глуп и своеволен!
- И что тебе до этого? – Мне больно,
Твоё безумство мне претит давно.
- Оставь меня, подумать дай спокойно!
- Раз так, молчу.. – Молчи, мне всё равно..
- Что хочешь ты? – Кутить ещё лет сто!
- Тебе за тридцать! – Только начал жить.
- Ребячество. – Нет. – Или хвастовство.
Что тебя тянет, как иголка – нить,
На худший путь? – Тебе не уяснить.
Я знаю всё! – О девичьем подоле?
- О мухе в молоке, о
Дети пещерные свято блюдут режим:
чистят клыки и ложатся в постели в восемь,
на ночь читают миф про земную жизнь,
мол, там, в другой эпохе желтела осень,
и в декабре крошился на землю снег,
что холоднее, чем стены в подземном гроте,
что-то светило там тысячи лет и не
гасло от ветра, звездой называлось, вроде.
Судя по книгам, там, где-то под потолком
круглые сутки синело-чернело небо,
в нём, проливая лунное молоко,
жил одинокий, мудрый, седой волшебник.
Песни его были трепетны и грустны,
кажется, в книгах его называли Богом..
Дети пещерные видят цветные сны,
где утопают в звёздных тропинках ноги.
Это цитата сообщения ЛЯДОВА Оригинальное сообщение
Luna Manakury...Отчего ж душу жжёт алым пламенем; Нервы стянуты тонкими нитками....
|
..преодолеть гостиную в три шагА*,
выдохнуть отболевшее: раз... два... три...
Мне бы поэмы сейчас о тебе слагать
или вывязывать крестиком изнутри
радужных пони, свиваться в цветной клубок,
не выходить из дома**, не застревать в двери.
\"Девочка, я с тобой,\" - отвечает Бог, -
\"только словами попусту не сори\".
Позже - стихами - понятно и о простом,
строго: анапест, дактиль и логаэд.
Я вышиваю крестиком на пустом
очередной неформатный тотальный бред...
Выйти в прихожую, вздрогнуть, пальто надеть,
площадь шагов от стены до стены сложить..
Если ты существуешь ещё, ответь,
как без тебя мне дальше прикажешь жить?
____________
* - употреблена счётная форма;
** - аллюзия к Бродскому.
Первый всё целится в рёбра, куда-то влево,
нужно принять, как данное, и молчать.
Боже, прошу, храни свою королеву,
а у меня - по ангелу на плечах.
Это во мне не исправить: он, словно морфий,
шёпот так сладок и голос его двулик.
Я остаюсь с тем, кто варит вкуснее кофе,
греет постель и рисует внутри нули.
Этот второй отчего-то стреляет метко:
сердце пробито. Наверно, ему - кранты.
Отче, продай хоть одну таблетку
от пустоты.
Они не сегодня-завтра исчезнут всё же...
Каждое "извини" рассекает кожу,
каждое "ухожу" выжигает имя,
каждое "я тебя.." пропадает с ними,
каждое "ненавижу" рождает "тоже".
Только сначала саднит и стирает в ноль, но
дальше - ещё бескожно, уже бескровно.
После - пустую - вакуум, полый шарик,
время не лечит, разве что только старит.
Господи, успокойся, уже не больно.
"Тем, кем мы могли бы стать..."
У них что ни встреча, то непременно, брань. Она тянет ему стакан, но его от вина мутит. Тишину разрезает сплит Чака Берри и Би Би Кинга.
Яна - крашеная блондинка лет так около тридцати. Ей бы надо в него врасти, как деревья врастают в землю. Что-то жжёт под яремной веной и трещит у нее в груди. Яна шепчет:" не уходи..", наливает себе глинтвейна. Яна слишком прямолинейна или, может, совсем пьяна.
И уже ему не жена.
Яна с месяц живёт, как битник, вымирающий индивид: всё бухает и истерит, полосует запястья бритвой. Что ни вечер, то снова битва без прострелов и ножевых. Их нет в умерших и живых. Их нет в выживших и погибших.
И такая стала для них любовь: у него - Рэй Брэдбери и плей-офф, у неё - интернет, алкоголь и блюз. Говорит, не сдохну, так хоть сопьюсь.. В подреберье снова пронзительно холодит. Яна ёжится и дрожит.
Яна хочет надраться, да так, чтобы в стельку, в хлам, но сгибается пополам, начинает протяжно выть.
- Ян, пора бы уже остыть..
В её кухне светлее и чище, чем было до.И ему одиночество не идёт. Яна робко сжимает его ладонь, горько плачет, уткнувшись ему в плечо.
Яне снова спокойно и горячо.
Сколько дороге ни виться - а всё туда.
Сколько тропе ни петлять - всё равно за ним.
Я уже год не снимаю колпак шута,
года четыре с лица не смываю грим.
Здесь у меня полный зал и смертельный трюк:
только осталось сильней натянуть канат.
Если я вдруг на манеж не сорвусь к утру,
пусть обо мне как о выжившей говорят.
Мне бы к нему на секунду /такая блажь/,
мне до его переулка подать рукой.
Вот его шторы глядят на второй этаж,
ветви каштана скрывают его балкон.
Вот на окне зацветёт по весне герань,
лампа моргнёт жёлтым глазом в который раз.
Я у подъезда до вечера, словно пьянь,
буду греть руки артерией теплотрасс..
..Сердце дрожит и колотится на износ,
кнопка звонка под ладонью моей гудит.
- Слышишь, ответь мне всего на один вопрос:
как тебе, ангел, живётся в его груди?
"Высоко, высоко, высоко в холмах, высоко на сосне, на помосте она считает ветер старой рукой, считает облака со старой присказкой: ...В целой стае три гуся..."
К. Кизи "Пролетая над гнездом кукушки"
Вот твоя комната - банка для мотыльков, где с каждым утром опять наступает вечер; время - хреновый доктор, а если лечит, то в основном кнутом..
Вот твоя койка, где надо лежать пластом, а лучше - крестом, впиваясь в ладонь стигматом:"Ну же, побудь хоть разок солдатом, не ощущающим ничего."
Ну же, побудь хоть разок, как все: мёртворождённым, тусклым и идентичным, с голосом птичьим - кукушкой в чужих часах. Слушай, ну кто так рисует страх? Страх бестелесен, а значит, он безъязычен; страх безразличен, а значит, он - пустота.
Вот твоя бухта с окнами на закат, с небом на горизонте червонной масти. Волны у мола свои разевают пасти, словно хотят живьём тебя проглотить. Море бурлит и плюётся кроваво-красным, будто со вспоротым брюхом кит перебирает в агонии плавниками /брось острый камень, чтобы его добить/.
Время когда-то приносит свои плоды, время наносит на раны бесцветный пластырь. Кто-то прозревший возьмёт тебя за запястье: "Вот твое счастье, поди его, разгляди.." Он остаётся совсем один. Ты же хохочешь, безумный и безучастный.
И прижимаешь счастье к тощей своей груди.
"...и стала она вдовой, да вдруг зачала.."
Сорок суток ворону голосить,
сорок лун стеречь.
Не тебе, my darling, меня крестить,
не тебе беречь.
У неё глаза ярче, чем смарагд,
чище, чем ручей.
У неё в крови то ли конокрад,
то ли казначей.
Всё, что тайно выманит у невест,
под полой хранит.
Чтоб с молитвой девичьей не воскрес,
сядет ворожить.
Сорок рун разложит перед собой,
призовёт волхвов..
Помоги же той, всемогущий Бог,
что милей всего
Вышивай, my darling, на животе
золочёный крест.
Я вернусь на тридцать девятый день
к первой из невест.
Это цитата сообщения Ворчливая_Ируся Оригинальное сообщение
... после...
|
Ветер срывает зонты с пожелтевших улиц,
Дождь размывает мосты и калечит крыши.
Осень твой профиль не старит и не сутулит,
Разве что делает голос грубей и тише.
Осень, рождая хандру, поднимает ворот.
Снова пытаюсь забыть города и лица.
Знаешь, тебе исполняется только сорок
В день, когда мне перевалит уже за тридцать.
Осень, как правило, входит в твой дом без стука,
значит, бесстыже тебя у меня ворует.
Я же гриппую и прячу в перчатки руки.
И не ревную.
Это цитата сообщения ulakisa Оригинальное сообщение
Давай представим ...
|
Если встретишь свободу, то это свобода от
Самого же себя, от способности праздно жить
Потому, что снаружи невидимый кукловод,
Управляя фигуркой, безжалостно тянет нить,
Чтоб плясала огнём, извивалась, как жалкий червь,
Чтоб сжималась пружиной, крутилась ручной юлой
До тех пор, пока кукла не станет никем, ничем:
Вдвое мельче, чем тля, и прозрачнее, чем стекло.
Кукловод воздвигает ряд башенок и мостов,
Строит стены и в них вырезает глаза бойниц.
Вот твой кукольный Тауэр, вот твой очаг и кров,
Если этого мало, то вот тебе трон и принц.
Он лелеет и холит её каждый волос, но
Стоит пальцам разжаться, и кукла лежит ничком:
Её принц был фантомом. Он правит другой страной.
Королевство, как мыльный пузырь, разорвёт. И дом
Её ветхий и карточный ливнями раздробит.
Жизнь фарфоровой куклы не станет ценней плевка.
Будь послушным невольником, крепче держись за нить,
Пока нитью ещё управляет его рука.
Я рождаюсь твоею тенью,
обнимая тебя за плечи,
мне не то, чтобы легче вторить,
мне, наверное, легче жить.
У меня нет с собой ни пенни,
мне платить за свободу нечем,
и осталось безмолвным вором
подбирать за тобой гроши.
Только долгими вечерами
я меняю тебя на стены,
на брусчатку и перекрестки,
на асфальт и фонарный свет.
Мы фантомы. И рядом с нами
тени-звери и птицы-тени
проживут до утра, а после
исчезают в сырой листве.
Я рождаюсь твоею тенью.
У меня нет иных привычек,
у меня нет других наречий,
у меня нет чужих имен.
Не прощай меня, никогда меня не прощай
- за разбитую чашку и недопитый чай, за забытое "завтра" и брошенное: "прощай" - вслух и, мысленно: "стало быть, навсегда...";
- за молчанье, безжалостней палача, вместо:"биться в истерике и кричать", за улыбку фальшивую - как печать, как клеймо, как пощёчина, как удар;
- за песок, засыпающий мне глаза; что ни слова не вышептать, не сказать; что уже ничего не вернуть назад; что все сложное - просто, как дважды два;
- и за снимок, оставленный на столе, где заснятое счастье - еще не блеф, где пока я не знаю, что значит - тлеть.
Где еще не научен ты предавать.