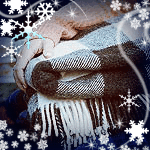Схемы от Schamada / Новогодние 2
Schamada
/ Photoshopia
:
27-12-2023 12:33




Ещё очень много моих схем ЗДЕСЬ
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии


Название: Новогодняя 1/2023
Автор: Schamada
Создана: 18.12.2023 11:39
Скопировали: 32 раз
Установили: 57 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 18.12.2023 11:39
Скопировали: 32 раз
Установили: 57 раз
Примерить схему | Cохранить себе


Название: Предновогоднее настроение 2023
Автор: Schamada
Создана: 17.12.2023 12:32
Скопировали: 11 раз
Установили: 17 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 17.12.2023 12:32
Скопировали: 11 раз
Установили: 17 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Схемы от Schamada / Новогодние
Schamada
/ Photoshopia
:
26-12-2023 12:47




Ещё очень много моих схем ЗДЕСЬ
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии


Название: С наступающими праздниками 2023
Автор: Schamada
Создана: 26.12.2023 11:49
Скопировали: 21 раз
Установили: 25 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 26.12.2023 11:49
Скопировали: 21 раз
Установили: 25 раз
Примерить схему | Cохранить себе


Название: Новогодняя безразмерная 2023
Автор: Schamada
Создана: 25.12.2023 14:57
Скопировали: 16 раз
Установили: 25 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 25.12.2023 14:57
Скопировали: 16 раз
Установили: 25 раз
Примерить схему | Cохранить себе
И еще важное про ящики @li.ru @liveinternet.ru
ValeZ
:
27-11-2023 13:51
Та же почта мейлру, которая (огромное ей спасибо!) последние 8 лет давала приют нашим почтовым ящикам, потребовала до конца года полностью удалиться, пока не дав никаких возможностей забрать наши данные. Мы экстренно делаем возможность сохранить хотя бы пересылку с ящиков наших на какую-то другую почту.
Призыв тот же. Если у вас ящик @li.ru @liveinternet.ru, то больше через мейлру им пользоваться будет нельзя, создавайте другую почту где-нибудь и мы поможем настроить туда редирект.
комментарии: 47
понравилось!
вверх^
к полной версии
Та же почта мейлру, которая (огромное ей спасибо!) последние 8 лет давала приют нашим почтовым ящикам, потребовала до конца года полностью удалиться, пока не дав никаких возможностей забрать наши данные. Мы экстренно делаем возможность сохранить хотя бы пересылку с ящиков наших на какую-то другую почту.
Призыв тот же. Если у вас ящик @li.ru @liveinternet.ru, то больше через мейлру им пользоваться будет нельзя, создавайте другую почту где-нибудь и мы поможем настроить туда редирект.
И снова про почту мейл.ру
ValeZ
:
27-11-2023 13:46
Теперь они требуют, чтобы мы перестали высылать на адреса почты тексты постов и комментариев, называют это спамом, говорят что никаких переговоров невозможно и это надо как можно скорее сделать, иначе вовсе прекратят получать любую почту от нас на ящики мейлру.
Будем делать, вариантов нет. Всех пользователей мейлру кому важна эта функциональность - придется переезжать. Яндекс, кстати, ни разу ни чем подобным не отличился.
комментарии: 33
понравилось!
вверх^
к полной версии
Теперь они требуют, чтобы мы перестали высылать на адреса почты тексты постов и комментариев, называют это спамом, говорят что никаких переговоров невозможно и это надо как можно скорее сделать, иначе вовсе прекратят получать любую почту от нас на ящики мейлру.
Будем делать, вариантов нет. Всех пользователей мейлру кому важна эта функциональность - придется переезжать. Яндекс, кстати, ни разу ни чем подобным не отличился.
Схемы от Schamada / Ноябрь 2023
Schamada
/ Photoshopia
:
11-11-2023 12:50




Ещё очень много моих схем ЗДЕСЬ
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии


Название: Последний осенний лист 2023
Автор: Schamada
Создана: 10.11.2023 11:21
Скопировали: 21 раз
Установили: 21 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 10.11.2023 11:21
Скопировали: 21 раз
Установили: 21 раз
Примерить схему | Cохранить себе


Название: Первый снег 2023
Автор: Schamada
Создана: 05.11.2023 13:34
Скопировали: 17 раз
Установили: 27 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 05.11.2023 13:34
Скопировали: 17 раз
Установили: 27 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Схемы от Schamada / Осень 2023
Schamada
/ Photoshopia
:
15-10-2023 12:22




Ещё очень много моих схем ЗДЕСЬ
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии


Название: Первый иней 2023
Автор: Schamada
Создана: 13.10.2023 13:14
Скопировали: 3 раз
Установили: 7 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 13.10.2023 13:14
Скопировали: 3 раз
Установили: 7 раз
Примерить схему | Cохранить себе


Название: Золотой октябрь 2023
Автор: Schamada
Создана: 12.10.2023 12:13
Скопировали: 9 раз
Установили: 10 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 12.10.2023 12:13
Скопировали: 9 раз
Установили: 10 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Схемы от Schamada / Лето 2023/2+ аватарки
Schamada
/ Photoshopia
:
08-07-2023 09:28




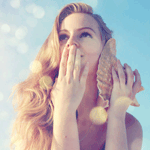


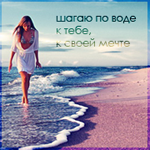

Ещё очень много моих схем ЗДЕСЬ


Название: Фуксия 2023
Автор: Schamada
Создана: 08.07.2023 09:22
Скопировали: 14 раз
Установили: 22 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 08.07.2023 09:22
Скопировали: 14 раз
Установили: 22 раз
Примерить схему | Cохранить себе


Название: Морской бриз 2023
Автор: Schamada
Создана: 05.07.2023 13:16
Скопировали: 15 раз
Установили: 26 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 05.07.2023 13:16
Скопировали: 15 раз
Установили: 26 раз
Примерить схему | Cохранить себе
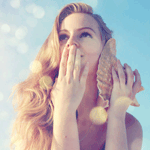


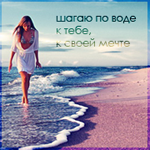

Схемы от Schamada / Лето 2023 + аватарки
Schamada
/ Photoshopia
:
01-07-2023 16:18








Ещё очень много моих схем ЗДЕСЬ


Название: Июль 2023
Автор: Schamada
Создана: 01.07.2023 15:35
Скопировали: 22 раз
Установили: 45 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 01.07.2023 15:35
Скопировали: 22 раз
Установили: 45 раз
Примерить схему | Cохранить себе


Название: Цветочная поляна 2023
Автор: Schamada
Создана: 27.06.2023 10:57
Скопировали: 11 раз
Установили: 12 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 27.06.2023 10:57
Скопировали: 11 раз
Установили: 12 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Схемы от Schamada / Дыхание весны 2023
Schamada
/ Photoshopia
:
25-04-2023 09:02




Ещё очень много моих схем ЗДЕСЬ
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии


Название: Дыхание весны 2023
Автор: Schamada
Создана: 25.04.2023 08:49
Скопировали: 13 раз
Установили: 34 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 25.04.2023 08:49
Скопировали: 13 раз
Установили: 34 раз
Примерить схему | Cохранить себе


Название: Нежная сирень 2023
Автор: Schamada
Создана: 23.04.2023 11:09
Скопировали: 4 раз
Установили: 10 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 23.04.2023 11:09
Скопировали: 4 раз
Установили: 10 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Схемы от Schamada / Весна 2023 + аватарки
Schamada
/ Photoshopia
:
01-04-2023 10:54








Ещё очень много моих схем ЗДЕСЬ


Название: Апрель 2023
Автор: Schamada
Создана: 31.03.2023 12:56
Скопировали: 12 раз
Установили: 16 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 31.03.2023 12:56
Скопировали: 12 раз
Установили: 16 раз
Примерить схему | Cохранить себе


Название: Время нарциссов 2023
Автор: Schamada
Создана: 26.03.2023 11:00
Скопировали: 8 раз
Установили: 14 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 26.03.2023 11:00
Скопировали: 8 раз
Установили: 14 раз
Примерить схему | Cохранить себе




Ещё очень много моих схем ЗДЕСЬ
Схемы от Schamada / Дуновение ветра 2023 + аватарки
Schamada
/ Photoshopia
:
20-03-2023 12:44






Ещё очень много моих схем ЗДЕСЬ


Название: Дуновение ветра 2023
Автор: Schamada
Создана: 20.03.2023 11:49
Скопировали: 23 раз
Установили: 26 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 20.03.2023 11:49
Скопировали: 23 раз
Установили: 26 раз
Примерить схему | Cохранить себе




Ещё очень много моих схем ЗДЕСЬ
Схемы от Schamada / Аромат весны 2023
Schamada
/ Photoshopia
:
19-03-2023 18:44


Ещё очень много моих схем ЗДЕСЬ
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии


Название: Аромат весны 2023
Автор: Schamada
Создана: 18.03.2023 10:03
Скопировали: 11 раз
Установили: 16 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 18.03.2023 10:03
Скопировали: 11 раз
Установили: 16 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Схемы от Schamada / Фантазия 2023 + аватарки
Schamada
/ Photoshopia
:
16-03-2023 20:05







Ещё очень много моих схем ЗДЕСЬ
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии


Название: Фантазия 2023
Автор: Schamada
Создана: 16.03.2023 09:09
Скопировали: 14 раз
Установили: 16 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 16.03.2023 09:09
Скопировали: 14 раз
Установили: 16 раз
Примерить схему | Cохранить себе



Схемы от Schamada / Сирень,бесшовная 2023 + аватарки
Schamada
/ Photoshopia
:
12-03-2023 13:20







Ещё очень много моих схем ЗДЕСЬ
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии


Название: Сирень,бесшовная 2023
Автор: Schamada
Создана: 12.03.2023 10:17
Скопировали: 15 раз
Установили: 15 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 12.03.2023 10:17
Скопировали: 15 раз
Установили: 15 раз
Примерить схему | Cохранить себе





Схемы от Schamada / Весна 2023
Schamada
/ Photoshopia
:
07-03-2023 13:00




Ещё очень много моих схем ЗДЕСЬ
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии


Название: Волшебство цветение 2023
Автор: SUNA50
Создана: 07.03.2023 12:08
Скопировали: 18 раз
Установили: 32 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: SUNA50
Создана: 07.03.2023 12:08
Скопировали: 18 раз
Установили: 32 раз
Примерить схему | Cохранить себе


Название: Весна 2023
Автор: Schamada
Создана: 04.03.2023 12:57
Скопировали: 22 раз
Установили: 24 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 04.03.2023 12:57
Скопировали: 22 раз
Установили: 24 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Схемы от Schamada / Зимний коктейл 2023
Schamada
/ Photoshopia
:
18-02-2023 13:15


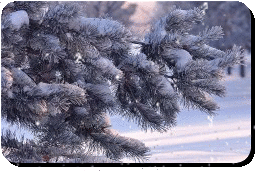






Ещё очень много моих схем ЗДЕСЬ
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии


Название: Зима 2023
Автор: Schamada
Создана: 08.02.2023 09:52
Скопировали: 6 раз
Установили: 7 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 08.02.2023 09:52
Скопировали: 6 раз
Установили: 7 раз
Примерить схему | Cохранить себе
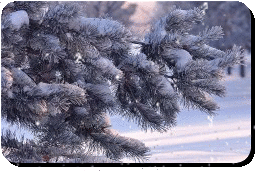

Название: Бесшовная/ зима 2023
Автор: Schamada
Создана: 13.02.2023 11:35
Скопировали: 19 раз
Установили: 17 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 13.02.2023 11:35
Скопировали: 19 раз
Установили: 17 раз
Примерить схему | Cохранить себе





Схемы от Schamada / День влюблённых 2023
Schamada
/ Photoshopia
:
11-02-2023 12:55


Ещё очень много моих схем ЗДЕСЬ
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии


Название: День влюблённых 2023
Автор: Schamada
Создана: 11.02.2023 10:44
Скопировали: 8 раз
Установили: 12 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 11.02.2023 10:44
Скопировали: 8 раз
Установили: 12 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Схемы от Schamada / Зимние 2 (3 штуки) + аватарки
Schamada
/ Photoshopia
:
03-02-2023 10:57
















Ещё очень много моих схем ЗДЕСЬ
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии


Название: Зимние сумерки 2023
Автор: Schamada
Создана: 02.02.2023 11:28
Скопировали: 14 раз
Установили: 18 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 02.02.2023 11:28
Скопировали: 14 раз
Установили: 18 раз
Примерить схему | Cохранить себе


Название: Зимняя 2023
Автор: Schamada
Создана: 28.01.2023 12:27
Скопировали: 14 раз
Установили: 28 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 28.01.2023 12:27
Скопировали: 14 раз
Установили: 28 раз
Примерить схему | Cохранить себе


Название: Зимнее затишье 2023
Автор: Schamada
Создана: 25.01.2023 12:12
Скопировали: 10 раз
Установили: 14 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 25.01.2023 12:12
Скопировали: 10 раз
Установили: 14 раз
Примерить схему | Cохранить себе










О непонятном слове «легитимность».
lj_17ur
/ lj_17ur
:
25-01-2023 15:53
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Неделю тому назад наткнулся на давно, казалось бы, почивший в бозе аргумент о неправильности Советского Союза. Мол, когда спускали советский флаг над Кремлём, никто не вступился. Ни сколько-то там миллионная КПСС, ни хомо советикус вульгарис ан масс. Не тот, значит, Союз-то был, а? В августе за новую свободную Россию, эвон, под танки бросались.
Люблю такие рассуждения, когда они звучат не в споре со мной, а так, мимолётом. Если человек помер от сердечной недостаточности, то, значит, был дураком или сволочью.
Оно бы и ладно, боевая ностальгия с некоторых пор не мой вид спорта. Однако сам предмет, этим изнаночным аргументом затронутый, с тех же пор стал актуален, и его бы не грех рассмотреть.
Теория. Есть такой предмет, как легитимность государства, и, если выжимать смысл из его словарных определений, то это потенциальное согласие подданных государства с его действиями. Потенциальное, как потенциальная энергия в физике.
Легитимность в отдельно взятом государстве трудно наблюдаема и сложно измеряема. Её легко объявить существующей или несуществующей, и неважно, существует она де-факто или нет здесь и сейчас. Так поступают «цивилизованные страны», когда объявляют настоящим, «легитимным» президентом своего зарубежного клиента, проигравшего выборы или не дошедшего до них. Другое дело, что долго поддерживать хорошую мину в этой игре невозможно, и «легитимный» клиент рассасывается во втором переносном смысле.
Следствием этого балагана оказывается инфляция самого понятия «легитимность»: её и продолжают отождествлять с внешней оценкой местных дел, хотя она, во-первых, совсем другое, а, во-вторых, критически важна для общества, у которого есть государство.
Легитимность трудно посчитать, однако можно указать на проводимые в жизнь государственные решения, однозначно снижающие легитимность этого государства.
Отличительным признаком таких решений станет бессудное поражение подданного в субъективных правах.
Права эти, опять же в моём понимании, сводятся к гарантированным государством возможностям подданного добиваться своих целей. Свободы, в моём же понимании, описывают ограничения на эти цели. Свободы – это «что можно», права – это «как можно».
В обсуждении состоявшейся или возможной делегитимации речь идёт именно о лишении прав, которые были, а не об отказе в предоставлении прав, которых не было. Именно поэтому требования прав мигрантами и ещё прав всевозможными меньшинствами не посягают на легитимность соответствующих государств.
На полях отмечу, что возможности, то есть суть субъективных прав – это не только возможность что-то делать, но и возможность чего-то не делать. Западные общества, в силу господствующей там этики, придают большее значение первой категории возможностей. Апологеты советского общества обычно говорят о второй («право на труд» как возможность не искать работу и проч.).
Лишение человека каких-то субъективных прав в принципе не может быть приемлемым для человека, даже если он именно этими правами здесь и сейчас не пользуется, достигая своих целей с помощью других субъективных прав. При этом самое резкое отторжение таких решений и у него, и у его близких, и у ему подобных возникает при отсутствии возможности оспорить эти решения. Суд, как учреждение, и нужен-то для того, чтобы такое отторжение смягчить.
Соответственно, делегитимация государства происходит тогда, когда подданные рассматривают, как действительную, возможность бессудной потери своих субъективных прав. Не обязательно только «тогда», но «тогда» обязательно.
История. Советский Союз не вышли защищать не потому, что не понимали, к чему идёт, – хотя последствий уж точно не предвидели – а потому, что он потерял легитимность в глазах своих граждан. Было государство, и нет государства. Нет его потому, что подавляющее большинство граждан знало: оно может им легко сделать крупную гадость. Не сделало, проклинать незачем. Исчезло, ну и скатертью дорога.
Замечу, что такой взгляд никак не противоречит тому, что СССР, по мнению любого отдельно взятого гражданина, был плохим или хорошим, адом или раем. Легитимность этим мнениям безразлична, она о том, что может быть, а не о том, что было или есть.
Как был делегитимизирован Советский Союз? Очень просто.
За свою историю Советская власть многажды творила дела, полностью подходящие под данное определение, – бессудное лишение субъективных прав – в отношении заметного числа граждан советского государства, а равно их близких и знакомых, которые гражданами, например, стать так и не успели, когда пришли красные.
Повторю: эти дела понижали легитимность советского государства в глазах современников, хотя те же современники могли считать их правильными и нужными (например, массовые репрессии 1937-1938 г. г.). Разумеется, Советская
Люблю такие рассуждения, когда они звучат не в споре со мной, а так, мимолётом. Если человек помер от сердечной недостаточности, то, значит, был дураком или сволочью.
Оно бы и ладно, боевая ностальгия с некоторых пор не мой вид спорта. Однако сам предмет, этим изнаночным аргументом затронутый, с тех же пор стал актуален, и его бы не грех рассмотреть.
Теория. Есть такой предмет, как легитимность государства, и, если выжимать смысл из его словарных определений, то это потенциальное согласие подданных государства с его действиями. Потенциальное, как потенциальная энергия в физике.
Легитимность в отдельно взятом государстве трудно наблюдаема и сложно измеряема. Её легко объявить существующей или несуществующей, и неважно, существует она де-факто или нет здесь и сейчас. Так поступают «цивилизованные страны», когда объявляют настоящим, «легитимным» президентом своего зарубежного клиента, проигравшего выборы или не дошедшего до них. Другое дело, что долго поддерживать хорошую мину в этой игре невозможно, и «легитимный» клиент рассасывается во втором переносном смысле.
Следствием этого балагана оказывается инфляция самого понятия «легитимность»: её и продолжают отождествлять с внешней оценкой местных дел, хотя она, во-первых, совсем другое, а, во-вторых, критически важна для общества, у которого есть государство.
Легитимность трудно посчитать, однако можно указать на проводимые в жизнь государственные решения, однозначно снижающие легитимность этого государства.
Отличительным признаком таких решений станет бессудное поражение подданного в субъективных правах.
Права эти, опять же в моём понимании, сводятся к гарантированным государством возможностям подданного добиваться своих целей. Свободы, в моём же понимании, описывают ограничения на эти цели. Свободы – это «что можно», права – это «как можно».
В обсуждении состоявшейся или возможной делегитимации речь идёт именно о лишении прав, которые были, а не об отказе в предоставлении прав, которых не было. Именно поэтому требования прав мигрантами и ещё прав всевозможными меньшинствами не посягают на легитимность соответствующих государств.
На полях отмечу, что возможности, то есть суть субъективных прав – это не только возможность что-то делать, но и возможность чего-то не делать. Западные общества, в силу господствующей там этики, придают большее значение первой категории возможностей. Апологеты советского общества обычно говорят о второй («право на труд» как возможность не искать работу и проч.).
Лишение человека каких-то субъективных прав в принципе не может быть приемлемым для человека, даже если он именно этими правами здесь и сейчас не пользуется, достигая своих целей с помощью других субъективных прав. При этом самое резкое отторжение таких решений и у него, и у его близких, и у ему подобных возникает при отсутствии возможности оспорить эти решения. Суд, как учреждение, и нужен-то для того, чтобы такое отторжение смягчить.
Соответственно, делегитимация государства происходит тогда, когда подданные рассматривают, как действительную, возможность бессудной потери своих субъективных прав. Не обязательно только «тогда», но «тогда» обязательно.
История. Советский Союз не вышли защищать не потому, что не понимали, к чему идёт, – хотя последствий уж точно не предвидели – а потому, что он потерял легитимность в глазах своих граждан. Было государство, и нет государства. Нет его потому, что подавляющее большинство граждан знало: оно может им легко сделать крупную гадость. Не сделало, проклинать незачем. Исчезло, ну и скатертью дорога.
Замечу, что такой взгляд никак не противоречит тому, что СССР, по мнению любого отдельно взятого гражданина, был плохим или хорошим, адом или раем. Легитимность этим мнениям безразлична, она о том, что может быть, а не о том, что было или есть.
Как был делегитимизирован Советский Союз? Очень просто.
За свою историю Советская власть многажды творила дела, полностью подходящие под данное определение, – бессудное лишение субъективных прав – в отношении заметного числа граждан советского государства, а равно их близких и знакомых, которые гражданами, например, стать так и не успели, когда пришли красные.
Повторю: эти дела понижали легитимность советского государства в глазах современников, хотя те же современники могли считать их правильными и нужными (например, массовые репрессии 1937-1938 г. г.). Разумеется, Советская
Схемы от Schamada / Зимние 2023
Schamada
/ Photoshopia
:
22-01-2023 12:09









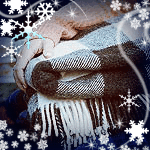

Ещё очень много моих схем ЗДЕСЬ
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии


Название: Чарующее изящество зимы 2023
Автор: Schamada
Создана: 22.01.2023 11:50
Скопировали: 26 раз
Установили: 46 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 22.01.2023 11:50
Скопировали: 26 раз
Установили: 46 раз
Примерить схему | Cохранить себе


Название: МОРОЗЫ 2023
Автор: Schamada
Создана: 17.01.2023 12:16
Скопировали: 17 раз
Установили: 39 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 17.01.2023 12:16
Скопировали: 17 раз
Установили: 39 раз
Примерить схему | Cохранить себе


Название: Нежное очарование зимы 2023
Автор: Schamada
Создана: 15.01.2023 12:06
Скопировали: 10 раз
Установили: 4 раз
Примерить схему | Cохранить себе
Автор: Schamada
Создана: 15.01.2023 12:06
Скопировали: 10 раз
Установили: 4 раз
Примерить схему | Cохранить себе