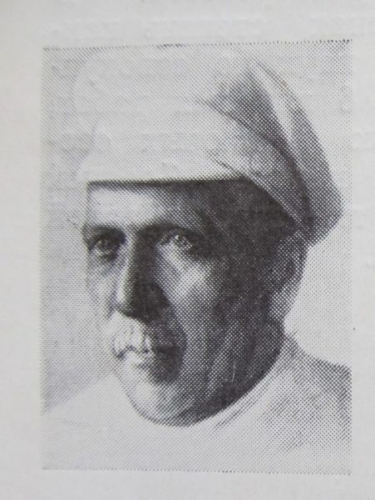|
История его жизни могла быть заурядной или выдающейся. Но закончилась, к сожалению, трагедией в которой переплелись судьбы его семьи, молодой студентки Туркестанского государственного университета Екатерины Гайдебуровой, архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) и соавтора гимна СССР Габриэля Урекляна (Эль-Регистан).
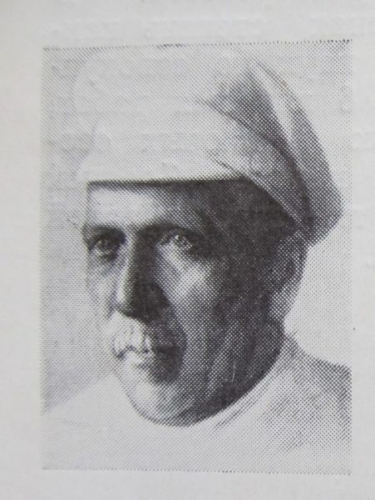
Спасаясь от хаоса Гражданской войны, Иван Петрович Михайловский перевез жену и троих детей из Харькова в Среднюю Азию. В Ташкенте он устроился преподавателем физиологии на медицинский факультет Среднеазиатского государственного университета, созданного после Революции.
В Ташкенте и окрестностях добился локальной известности. В 20-е годы были очень популярны публичные научные опыты, в которых Михайловский охотно участвовал. Гипноз науки, научных знаний, которому, по расчетам идеологов тех лет, надлежало полностью вытеснить из человеческой души веру, религию, действительно захватывал широкие круги интеллигенции и общественности. Суть публичных опытов, на которые приглашались представители местных СМИ, заключалась в том, что Михайловский выкачивал у подопытных животных кровь, пока они не впадали в состояние клинической смерти. После этого "промытую" раствором Рингера-Локка кровь он переливал обратно, после чего животное возвращалось к жизни.
Типичная заметка под названием «Жизнь и смерть» появившаяся в «Правде Востока» 5 апреля 1928 года. В ней публику извещали, что 7 апреля в Ташкентском доме Красной Армии ученые ответят желающим: «Где лежат границы жизни и смерти? В чем сущность жизненных проявлений и где начало умирания? Возможно ли временное умирание и новое оживление? Где центры, заведующие жизнью животных и человека? Возможна ли жизнь без мозга, сердца, легких, крови?». В 20-х годах научный энтузиазм не останавливался ни перед чем.
Раствор Рингера-Локка применяется в ветеринарии и сейчас, для лечения обезвоживания и интоксикаций, но Михайловский верил в его чудодейственные свойства. К экспериментам на людях он не решался приступить, пока в его семье не случилась трагедия.
В 1924 году заболел скарлатиной его сын Игорь. Спасти ребенка не удалось. Смерть эта вызвала у Михайловского взрыв безумия. Он кричал, чтобы жена зарубила его или дала яду, накинулся с топором на домашний киот сокрушая иконы. «Бог, лишающий отца горячо любимого сына, - не Бог, а гнусное чудовище». Постепенно буйство прошло, но началось тихое помешательство. Иван Петрович отказался хоронить сына. Заявил убитой горем супруге, что теперь он верит только в науку, с ее помощью вернет к жизни сына.
Он забальзамировал тело сына (бальзамирование было второй темой страстного интереса профессора) и перевез труп в университет. Михайловский настолько свято верил в возможность успеха, что умудрился убедить институтское начальство в огромной важности разворачиваемого исследования, получил карт-бланш и даже деньги на покупку оборудования. Между тем отклонения доктора становились все заметнее, он подолгу беседовал с мертвым мальчиком, покупал ему сласти.
Супруга Михайловского даже обращалась к Святителю Луке с просьбой убедить мужа похоронить сына "по-человечески". Нестерпимо слышать, что крысы грызут тело Игоря, а студенты тайком ходят на кафедру, чтобы там потешаться зрелищем «мальчика, приготовленного для воскрешения». Не известно какими словами утешил Лука свою собеседницу. Известно лишь, что с Михайловским он беседовать не стал.
В характере Михайловского произошел резкий перелом. Был он всегда человеком спокойным и добрым, а тут вдруг стал груб, даже жесток. Случалось, бил жену и детей. Жить с ним стало невыносимо. Семья распалась. Алевтина Ивановна Михайловская стала поденщицей и прачкой, чтобы заработать хоть какие средства и прокормить двух других детей от их брака с Михайловским.
13 февраля 1929 года Михайловский зарегистрировал в ЗАГСе второй брак. Его избранницей стала молодая студентка Екатерина Гайдебурова. Однако семейного счастья не получилось, супруги постоянно конфликтовали, молодая жена часто проводила время вне дома. А в начале августа 1929 года тело Михайловского с огнестрельной раной нашли в его кровати. В одном из позднейших фельетонов, посвященных гибели Ивана Петровича, жена его, Екатерина Сергеевна Гайдебурова, изображена как «молодая, статная студентка-медичка со злым огоньком в красивых глазах».
Следователь по этому делу был склонен подозревать, что это было убийство на бытовой почве и арестовал Гайдебурову.
Но в ходе расследования выяснилась еще одна деталь. По церковным законам самоубийц не отпевают. Исключения делается только для сумасшедших. Оказалось, что Гайдебурова обращалась к главе Туркестанской епархии, епископу Луке, в миру Валентину Войно-Ясенецкому, бывшему хирургу. При аресте Гайдебуровой и обыске была обнаружена записка, подписанная доктором медицины епископом Лукой и скрепленная его личной печатью: «Удостоверяю, что лично мне известный профессор Михайловский покончил жизнь самоубийством в состоянии несомненной душевной болезни, от которой страдал он более двух лет. Д-р мед. епископ Лука. 5. VIII. 1929».
20 января 1930 года появилось обвинительное заключение, и Екатерина Гайдебурова поехала отбывать срок на Урал. Дальнейшая судьба ее неизвестна.
В 1929 году в СССР началась так называемая "безбожная пятилетка", ознаменовавшаяся тотальным наступлением на религию. Молодой журналист Эль-Регистан, чутко уловил тенденции и сумел обратить на себя внимание. В узбекских газетах, с которыми сотрудничал этот тогда еще малоизвестный автор, была опубликована серия статей, посвященных делу Михайловского. По версии журналиста, ни о каком бытовом конфликте, а уж тем более о самоубийстве не могло быть и речи. "Екатерина Сергеевна, советская студентка-медичка, как известно многим, целующая руку попам из Сергиевской церкви, убила мужа из религиозного фанатизма", так звучали эти статьи. Михайловский был показан в работах Эль-Регистана гениальным революционным ученым, который вплотную приблизился разгадке тайны смерти, но жизнь его была прервана заговором "церковников", среди которых была и его жена. Для Эль-Регистана статьи о деле Михайловского стали трамплином для дальнейшей карьеры. Никому не известный журналист после этого переехал в Москву и начал сотрудничать с крупнейшими советскими СМИ.
Из-за шумихи в СМИ, история с «Делом Михайловского» вышла на союзный уровень. О ней писали в СМИ, ее приводили в пример на партийных и комсомольских собраниях. Михаил Борисоглебский написал по мотивам уголовного дела роман "Грань", была поставлена пьеса Тренева "Опыт”, драма Лавренева "Мы будем жить!". В каждой из которых гениальный ученый-материалист, приблизившийся в своих открытиях к достижению оживления умерших становился "жертвой религиозного фанатизма".
Войно-Ясенецкого Валентина Феликсовича обвинили в том что, желая скрыть следы преступления фактического убийцы Михайловского, выдал заведомо ложную справку о душевно ненормальном состоянии здоровья убитого с целью притупить внимание судебно-медицинской экспертизы. Постановили привлечь его в качестве обвиняемого, предъявив ему обвинение в укрывательстве убийцы и выслать через ПП ГПУ в Северный край сроком на три года. Владыка Лука выслушал этот безграмотный вздор и написал под печатным текстом: «Обвинение мне предъявлено 13 июня 1930 года. Виновным себя не признаю». Освобожден был в ноябре 1933 года.
Через полгода после ссылки Екатерины Гайдебуровой следователь «Дела Михайловского» получил от неё письмо. В своем письме она выболтала все тайны, которые так стоически скрывала на следствии. Екатерина Сергеевна еще раз подтвердила, что не убивала мужа. Он застрелился сам в ее присутствии после очередного супружеского скандала. Совсем иная причина заставила ее петлять на допросах, лгать, отказываться от своих показаний. Екатерина Сергеевна боялась, что ее уличат в другом преступлении. Начиная с 1927 года, она жила со своим отчимом Гайдебуровым. Он приходил к ней ночью, покинув супружеское ложе в соседней комнате. Сначала отчим принуждал ее к сожительству, но потом она уже не противилась, хотя и замирала от страха, боясь, что мамочка узнает правду. Страх стал главным чувством ее жизни. Страх и стыд. Она любила мать и мучилась от двойственного положения дочери и соперницы. Мать ни о чем не догадывалась. В начале февраля 1929 года Катя почувствовала себя беременной. Попыталась "устроить" аборт - не получилось. Оставалось одно: срочно выйти замуж. Неожиданно для всех она дала согласие на брак с этим желтым и лысым Михайловским, который давно домогался ее руки. После регистрации в ЗАГСе и свадебного пира возник первый конфликт: молодая не желала ехать в дом мужа. И не только потому, что не любила старика, но и из-за тяжело протекающей беременности - ее непрерывно мутило. Екатерина потребовала венчания и заявила, что невенчанная в дом Михайловского не войдет. Она лгала - дома, в институте, матери, мужу, подругам. Она убегала к маме, но та гнала ее назад: "Ты жена, хозяйка, заводя свое гнездо". А когда удавалось заночевать в своей девичьей комнате, туда снова являлся среди ночи отчим. Муж в общем-то был человеком неплохим. Но он чувствовал, что между ними лежит какая-то ложь. Он действительно был физически не совсем здоров, а от постоянных ее тайн и скандалов окончательно помешался. Много раз грозился покончить жизнь самоубийством. И после одной особенно тягостной для обоих ругани исполнил свою угрозу. В том письме, накарябанном на скверной бумаге, бывшая студентка посвящала и несколько строк епископу Луке. Владыка ни в чем не виноват. Он один отнесся к ней по-человечески, хотя она и его обманывала, когда приходила толковать о церковном венчании.
"Дело Михайловского" было пересмотрено в 1932 году в Москве особо уполномоченным Коллегии ОГПУ. Пересмотр привел к заключению, что действительно Михайловский покончил жизнь самоубийством.
Лука Войно-Ясенецкий вернулся в Ташкент и в 1937 году был осужден на новую ссылку.
С началом Великой Отечественной епископ обратился лично к Калинину, предлагая себя в качестве врача. Просьбу удовлетворили. Святой отец был назначен главным хирургом одного из эвакогоспиталей. В 1942 году он получил сан архиепископа, в 1945-м — медаль, а через год стал лауреатом Сталинской премии «за разработку новейших хирургических методов лечения». После войны архиепископу поручили Крымскую епархию, а уже после смерти, в 2000 году, причислили к лику святых.
На этом можно было бы закончить рассказ о профессоре, одержимом идеей повторить свершение доктора Франкенштейна и воскресить сына, но есть еще один любопытный факт. В марте 1930 года главный врач Института имени Склифосовского Сергей Юдин провел переливание 400 миллилитров трупной крови из тела, хранившегося в институтском морге, в тело 33-летнего самоубийцы. Невероятно, но Юдин спас суицидника и сделал неоценимый вклад в область трансфузиологии, реаниматологии, трансплантологии.
Открытие Юдина, уже напрямую перекликавшееся с романом Шелли, получило одобрение и успешно применялось, допустим, во время боевых действий в охваченной Гражданской войной Испании. Метод переливания трупной крови применялся в СССР плоть до 1990-х, хотя в настоящее время признан неэффективным из-за риска бактериальных заражений.
Драматичная история советского "доктора Франкенштейна" быстро позабылась во всем СССР. Сейчас о нем напоминает лишь надгробие его могилы на Боткинском кладбище в Ташкенте с надписью - "основоположнику учения об оживлении организма".
Любопытно, что пионер литературы ужасов, роман «Франкенштейн», был написан Мэри Шелли в 1816 году в ответ на пари, заключенное на даче лорда Байрона. Могла ли молодая женщина предположить, что через сто лет попытка воплотить идею ужастика в реальность выльется в историю, не менее жуткую, чем все ее фантази...
|