130 лет со дня рождения Юрия Тынянова
18-10-2024 18:56
к комментариям - к полной версии
- понравилось!

Нижеследующее эссе вошло в число
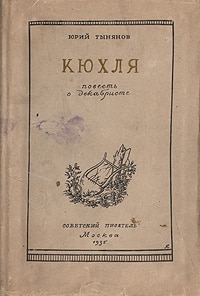
 вверх^
к полной версии
понравилось!
в evernote
вверх^
к полной версии
понравилось!
в evernote

18 октября 1894 года родился Юрий Тынянов – советский литератор, драматург и критик, один из ярких представителей русского формализма.
Наиболее известными его произведениями стали «Кюхля», «Смерть Вазир-Мухтара» и неоконченный роман «Пушкин».
Нижеследующее эссе вошло в число
победителей конкурса "Нового мира".
Для упертого почвенника происхождение Тынянова более чем сомнительно. Юрий Николаевич родился в семье врача Носона Тынянова. И его мама звалась Сора-Хася, урожденная Эпштейн, но национальность не кровь, а культура — Тынянов сделался тончайшим знатоком и едва ли главным певцом Золотого века русской литературы.
Начинал он как блестящий филолог. В 1912 году с серебряной медалью окончил Псковскую гимназию, в 1919-м — историко-филологический факультет Петроградского университета. Его, выражаясь по-нынешнему, оставляли в аспирантуре, однако академическая карьера не прельстила. «Пушкинисты были такие же, как теперь, — малые дела, смешки, большое высокомерие. Они изучали не Пушкина, а пушкиноведение», — вспоминал через двадцать лет литературовед-новатор.
С 1918 года Тынянов вошел в знаменитый ОПОЯ́З — общество изучения поэтического языка, или общество изучения теории поэтического языка, — куда входили такие звезды «формальной школы», как Шкловский и Эйхенбаум. Михаил Зощенко называл «формалистов» фармацевтами из-за эпатажных деклараций, сводящих художественное творчество к сумме приемов, но теоретические работы Тынянова настолько смелы и оригинальны, что останутся мощным стимулом даже для тех, кто пожелает их опровергнуть.
Это был урок Тынянова: научная гипотеза должна не столько закрывать тему, сколько стимулировать ее развитие.
Даже совсем еще молодого Тынянова — профессора Института истории искусств — Чуковский в своем дневнике называл всезнающим и вспоминал, что, где бы он ни поселился, его жилье через день-два обрастало книгами на всех европейских языках, и количество их неудержимо росло. В мемуарной статье «Юрий Тынянов» Чуковский восхищался еще и тем, что из каждой прочитанной книги перед ним во весь рост вставал ее автор, живой человек с такими-то глазами, бровями, привычками, жестами, и о каждом из них Тынянов говорил как о старом приятеле, словно только что расстался с ним у Летнего сада или в Госиздате на Невском. «Тынянов как историк очень остро ощущал каждую отдельную эпоху, с тем неповторимым, единственным запахом, который был присущ только ей, — люди каждой из этих эпох, по его ощущению, не истлели на кладбище, а чудесным образом остались в живых, и старик Державин был для него такой же давнишний знакомец и друг, как, скажем, Всеволод Иванов или Шкловский».
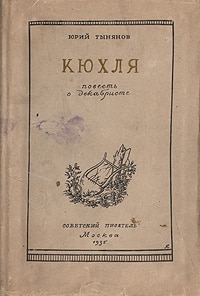
И однажды, когда Чуковский предложил ему для остро необходимого заработка написать брошюру о Кюхельбекере, Тынянов ответил прекрасным трагическим романом «Кюхля». Карамзин называл историю священной книгой народов, но это относится, конечно, не к истории академической, поглощенной цифрами и фактами, а к истории художественной, романтической, порождающей эмоциональное единство с предками, которое, в сущности говоря, и есть патриотизм. Чтение Тынянова для тех, кто способен ощутить его силу и красоту, - лучшее патриотическое воспитание: какими мощными фигурами наполнена наша история!
Причем их страдания порождают к ним больше любви, чем их успехи, - это был еще один урок Тынянова, - по времени самый первый.
Блистательный роман «Смерть Вазир-Мухтара» еще и стилистически роскошен, хотя, в десятый раз перечитывая его лет через сорок, местами я ощутил некоторый избыток изысканности. Видимо, за эти десятилетия я избыточно упростился.
Но вот и Чуковский 17 марта 1926-го записал в дневнике: «Милый Ю.Н. читал мне отрывки из своей новой повести «Смерть Грибоедова». Отрывки хорошо написаны, но чересчур хорошо. Слишком густо дан старинный стиль. Нет ни одной не стилизованной строки. Получаются одни эссенции, то есть внутренняя ложь, литературщина». Тынянов обещал переделать, но ведь ужасно трудно переделывать то, что так великолепно получается. Возможно, вина здесь не Тынянова, а наша с Чуковским: мы забыли, что цель искусства не правда, а прекрасная ложь. Тынянов помог это вспомнить.
Запись Чуковского 11 октября 1927-го: «Он сейчас мучается над грибоедовским романом. Прочитал мне кусок – о том, как томит Грибоедова собственное Горе от Ума – пустота, бездушие, неспособность к плодородящей глупости, и мне показалось, что обе эти темы – о Киже и о Грибоедове – одинаковы, и обе – о Тынянове. В известном смысле он и сам Киже, это показал его перевод Гейне: в нем нет «влаги», нет «лирики», нет той «песни», которая дается лишь глупому. Но все остальное у него есть в избытке».
И финал романа 20 мая 1928-го Чуковский назвал «отличным».
А потом через целую вечность в 1967 году, в больнице он пишет о биографии Тынянова: «В книге нигде не говорится, что он еврей. Между тем та тончайшая интеллигентность, которая царит в его «Вазир Мухтаре», чаще всего свойственна еврейскому уму. Сравните роман Ал.Толстого с Тыняновскими. У Тынянова героями выступают идеи, идеи борются и сталкиваются и вообще на первом месте – идеология. Идеология, подкрепленная живописью. А у Ал.Толстого – плоть».
Запись 24 ноября 1924-го о, так сказать, политической неискушенности Тынянова: Тынянов подписал некую «сервильную» бумагу – оказалось, что в этих делах он «младенец».
А первого и пятого июня 1930-го и Чуковский, и Тынянов продемонстрировали исключительную политическую зрелость. Чуковский, размышляя, какими «идиотскими, сантиментальными, гомеопатическими средствами» народники желали «спасти свой любимый народ», пришел к выводу, что «колхоз – это единственное спасение России, единственное разрешение крестьянского вопроса в стране!». «Через десять лет вся тысячелетняя крестьянская Русь будет совершенно иной, переродится магически – и у нее настанет такая счастливая жизнь, о которой народники даже не смели мечтать, и все это благодаря колхозам».
Тынянов на эти мысли Чуковского ответил так: «Я думаю то же. Я историк. И восхищаюсь Сталиным как историк. В историческом аспекте Сталин как автор колхозов величайший из гениев, перестраивающих мир. Если бы он кроме колхозов ничего не сделал, он и тогда был бы достоин называться гениальнейшим человеком эпохи».
Наивность оторванного от реальности кабинетного мыслителя? Кому-то хотелось бы почувствовать себя умнее Тынянова, да только, увы, даже самые умные люди не в силах противостоять «духу времени», или, проще выражаясь, политическом модам. И, стало быть, наше осуждение колхозов тоже продиктовано модой, а не глубоким пониманием проблемы. В которой, если серьезно, почти никто из нас, начиная с меня самого, ничего не смыслит, мы способны только поддакивать тем, кто нам нравится, или противоречить тем, кто не нравится («Если Евтушенко против колхозов, то я за»). И единственный способ вырваться из заколдованного круга, - искать правоту у тех, чьи мнения нам не по шерсти. В данном случае – задуматься: а вдруг ужасы коллективизации порождены не самой ее идеей, а милитаризацией? И не обобществление, а именно ускоренная милитаризация требовала жестокости и выжимания из крестьянства последних соков?
Такую вот неожиданную социальную подсказку подарил мне этот политический «младенец» - Юрий Тынянов.

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.
Дневник 130 лет со дня рождения Юрия Тынянова | Томаовсянка - Дневник Тамары_Караченцевой |
Лента друзей Томаовсянка
/ Полная версия
Добавить в друзья
Страницы:
раньше»